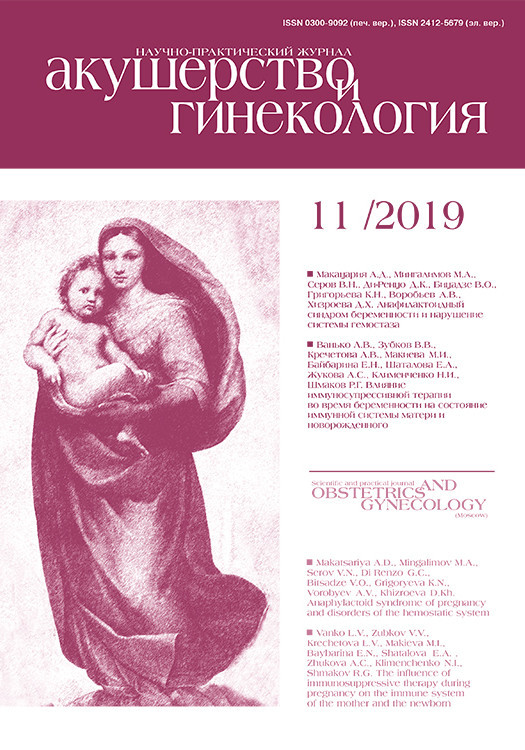Медицинское сообщество не может оставлять без внимания современную тенденцию увеличения родов в позднем фертильном возрасте. За последнее десятилетие отношение к данной проблеме изменилось. В 90-е годы минувшего века беременность женщины в позднем фертильном возрасте принимали за ошибку в вопросе планирования семьи. Более того, во многих странах идут дебаты по поводу законодательного ограничения возраста женщин, прибегающих к помощи современных репродуктивных технологий в позднем фертильном возрасте [1].
Существование данной тенденции признается не только на врачебном, но и на государственном уровне. Ученые называют «поздние» роды ключевой репродуктивной проблемой наших дней, но также признают, что в современном мире данное явление стало объективной реальностью для акушерства [1, 2]. Как известно, по данным ВОЗ, оптимальным для рождения ребенка считается возраст от 20 до 30 лет, роды до 19 лет считаются ранними, а у женщин старше 35 лет – поздними [3].
В отечественной и зарубежной литературе уделяется очень много внимания психологическому статусу беременной позднего фертильного возраста. Серьезный акцент необходимо делать на особенности состояния органов репродуктивной системы и влияние экстрагенитальной патологии в этом возрасте на гестационный процесс [4–6].
Ясно, что нерегулярный менструальный цикл (МЦ) и возрастные изменения яичников, которые предшествуют менопаузе, начинают оказывать свое действие на репродуктивную функцию пациентки уже после 35 лет и особенно ослабляют ее в возрасте старше 40 лет [1–3, 7].
Среди ученых нет единого мнения об основной причине резкого понижения способности к зачатию у женщин позднего возраста. Частота возникновения ановуляторных МЦ между 40 и 50 годами колеблется от 12 до 15% от их общего числа; в то время как у женщин от 26 до 40 лет данный показатель составляет 3–7%. Между тем у значимой части женщин в пременопаузе сохраняются систематические овуляторные циклы с таким же примерно уровнем стероидных гормонов, как и в активном репродуктивном периоде [8, 9]. Но, тем не менее, по данным литературы, у женщин старше 35–40 лет способность зачать ребенка в 2–3 раза ниже, а риск прерывания беременности – в 4–7 раз выше, чем у молодых. Уровень гормонов, изменяющийся с возрастом, влияет на фолликулогенез, на созревание эндометрия, а также на развитие эмбрионов, отвечает за дегенеративные изменения и апоптоз в клетках яичника, которые, по мнению некоторых ученых, могут с возрастом вызвать злокачественные изменения в его тканях [10, 11].
Основную роль в возрастном снижении фертильности принято отводить изменению уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и эстрадиола, а также снижению концентрации ингибина-В и антимюллерова гормона (АМГ). Таким образом, главной особенностью периода угасания активности репродуктивной системы женщины ученые называют изменение функции гонад. Этот возрастной процесс запрограммирован генетически. Старение яичника как органа, к числу основных функций которого относятся оогенез и гормонообразование, начинается антенатально и продолжается в течение всей жизни. Известно, что средняя масса яичников начинает уменьшаться уже после 30 лет, а после 40 лет яичник превращается в орган, богатый стромальными элементами, и характеризуется развитием в нем разного рода регрессивных процессов [10–11].
Не менее важным фактором являются возрастные изменения матки, что тоже обуславливает снижение фертильности. Известно, что на имплантацию бластоцисты в эндометрий оказывают влияние уровни гормонов, изменяющиеся с годами. В подтверждение этому, Кleyn J. и соавт. [12] в своем исследовании обнаружили увеличение частоты недостаточности лютеиновой фазы у пациенток в зависимости от возраста. При этом назначение препаратов прогестерона в группе пациенток позднего фертильного возраста с недостаточностью лютеиновой фазы не способствовало росту числа беременностей, что натолкнуло ученых на идею о влиянии на имплантацию не только гормонального фактора, но и возрастных особенностей самой матки [12]. Тем не менее гистологическое изучение эндометрия не выявило каких-либо существенных изменений, которые могли бы напрямую зависеть от возраста пациенток [13]. При сравнении двух групп пациенток в программе ЭКО с донорскими ооцитами, получавших одинаковую гормональную поддержку эстрадиолом и прогестероном, гистологическая картина эндометрия у женщин старше 40 лет практически не отличалась от таковой у пациенток молодого возраста [13].
По данным исследователей, при изучении возрастных особенностей архитектоники артериальных сосудов матки и структурных элементов ее стенки были обнаружены склеротические изменения сосудов миометрия, их облитерация и увеличение количества коллагеновых волокон во всех слоях стенки матки у женщин позднего фертильного возраста, вне зависимости от паритета родов [11, 15]. Данное обстоятельство объясняет высокую частоту аномалий родовой деятельности у этих пациенток.
В группе первородящих женщин старше 30 лет, по итогам изучения чувствительности рецепторов миометрия к прогестерону, выявлено ее значительное снижение в активную фазу родов, по сравнению с более молодыми пациентками [10, 11]. Параллельно с этим Srinivas S. и соавт. [16] провели исследование рецепции половых стероидов у женщин, рожавших с рубцом на матке, в ходе которого было выявлено, что приоритет в регуляции родового акта принадлежит не изолированной чувствительности рецепторов, а динамике их соотношения в течение родов [15].
Итоги исследований динамики возрастного снижения фертильности дали возможность современной научной медицине выработать определенный подход к достижению беременностей у пациенток позднего репродуктивного возраста с помощью программ современных медицинских технологий [16–18]. Поэтому в последнее время широко исследуется «овариальный резерв» – оценка репродуктивного потенциала женщин с помощью конкретных маркеров, среди которых ключевыми показателями считаются ФСГ, АМГ, объем яичника, ингибин-В и число антральных фолликулов [16–18]. По данным литературы, достоверное снижение данных показателей с возрастом женщины бесспорно [16]. Например, по итогам исследования, проведенного в США Salihu H. и соавт. [19], была обнаружена биэкспоненциальная взаимосвязь между сокращением количества антральных фолликулов и возрастными изменениями во всех органах и системах женщины к концу 4-го десятилетия ее жизни. Это разъясняет тот факт, что у женщин старше 35 лет частота успешных попыток ЭКО составляет не более 15%, а среди пациенток после 41 года – не выше 5–8% [19]. Объяснение этому частично можно найти и в исследованиях, которые указывают на наличие возрастных изменений не только ядра, но и цитоплазмы ооцита [20–22].
В позднем фертильном возрасте целесообразна донация ооцитов, что можно объяснить значительным возрастным увеличением риска хромосомных аномалий в ооцитах [10, 11, 18]. Полагают, что скопление яйцеклеток с хромосомными нарушениями, которые могут привести к развитию уродств у плода, может быть связано с задержкой овуляции и их перезреванием, что свойственно для женщин позднего фертильного возраста. Выброс задержанной, перезрелой яйцеклетки, как правило, случается в первом овуляторном цикле после долговременной ановуляции. Доказательством данной теории служит большой процент преждевременного прерывания беременности, наблюдаемый у пациенток старше 35–40 лет с нередкими ановуляторными циклами [16, 18, 23]. С другой стороны, во многих исследованиях показано, что высокая частота образования аномальных ооцитов у пациенток позднего фертильного возраста может быть обусловлена воздействием всевозможных повреждающих факторов внешней среды [24].
Известно, что риск рождения малыша с синдромом Дауна и другими хромосомными аномалиями увеличивается с возрастом. Для 20-летних мам – это 1 случай на 1923 родов, для 35-летних – 1 случай на 365 родов, а для 40-летних – 1 случай на 100 родов. Причем приводящее к этому генетическому заболеванию нерасхождение 21 хромосомы исследователи связывают именно с патологией яйцеклетки матери, а не сперматозоида отца [25, 26].
По данным некоторых зарубежных ученных, доля ооцитов, несущих мутации генов у женщин старше 40 лет, составляет 60–70% [22, 27].
Другие исследователи, изучая ооциты женщин позднего фертильного возраста, считают, что некоторые из них, несущие малозначительные генетические изменения (фрагментацию не больше двух хромосом в метафазе), могут нормально проходить оплодотворение и имплантацию, не отличаясь морфологически от здоровых эмбрионов. Вероятно, именно такие зародыши в последующем, после остановки внутриутробного развития, составляют процент «генетически здоровых» абортусов, хотя также несут в себе мутации [23, 26–28].
При исследовании материнского возраста в группе детей с аутизмом было выявлено, что фактором риска является возраст матери старше 35 лет. Также большое значение имел возраст отца старше 40 лет. В случаях, когда оба родителя были в позднем фертильном периоде, риск рождения малыша с аутизмом возрастал в три раза, по сравнению с молодыми родителями. Более того, есть работы, где возраст отца старше 40 лет указывается как фактор риска развития у ребенка биполярных афферентных расстройств [29, 30].
Многие современные исследования посвящены проблеме преимплантационного генетического скрининга в программе ЭКО. Данный метод исследования позволяет выявить наличие хромосомных нарушений и анеуплоидию. Но до настоящего времени остается спорным вопрос о необходимости его обязательного проведения женщинам позднего фертильного возраста. Некоторые авторы полагают его нецелесообразным в связи со снижением частоты наступления беременности вследствие данной процедуры [17, 25]. Другие считают, что преимплантационная диагностика и перенос заведомо эуплоидных эмбрионов в программе ЭКО пациенткам позднего фертильного возраста приводит к снижению частоты прерывания беременности на ранних сроках [14, 30].
Программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) являются наиболее эффективными методами преодоления бесплодия. Однако в группе пациенток позднего фертильного возраста эффективность программ ВРТ не превышает 10%, а вероятность наступления беременности снижается на 4,7% из расчета на каждый год жизни женщины старше 30 лет [31].
Было выявлено, что пациентки позднего фертильного возраста имеют более низкий уровень АМГ, что является неблагоприятным прогностическим фактором в программах ВРТ. На сегодняшний день АМГ – единственный доказанный лабораторный критерий оценки овариального резерва. В клинической практике определение уровня АМГ в сыворотке крови имеет большое значение для прогнозирования овариального ответа, так как АМГ отражает не только состояние фолликулярного пула, но и качество ооцитов [10, 18]. Согласно консенсусу Европейской ассоциации эмбриологии и репродукции человека, критерием снижения овариального резерва является уровень АМГ≤1,2 нг/мл [31].
В последнее время проводится поиск новых методов повышения эффективности программ ВРТ у пациенток позднего фертильного возраста. Известно об использовании щадящей методики денудации и культивирования эмбрионов в газовой смеси с пониженным содержанием кислорода, что позволяет уменьшить частоту дегенерации ооцитов и увеличить процент эмбрионов хорошего качества на 3-й день развития, а главное, увеличить частоту наступления клинической беременности. Но использование среды EmbryoGen в данной возрастной группе требует дальнейшего исследования [16, 18, 31] .
Среди исследователей нет единого мнения и по поводу адекватности пренатального скрининга (измерение толщины воротникового пространства, уровня РАРР-А и свободного β-ХГЧ) в I триместре для беременных пациенток старше 40 лет. В связи с чем предлагается разработать специальный подход и нормативы с учетом возраста женщины и повышенного риска развития генетических аномалий [16, 27].
Известно, что у женщин позднего фертильного возраста настороженность по поводу генетических отклонений плода особенно высока, поэтому часто применяются инвазивные способы генетического исследования [16, 20, 30]. Но клиницисты отмечают, что пренатальный скрининг и инвазивные методики обследования воспринимаются женщинами этой возрастной группы отрицательно. По данным исследования, проведенного в США, среди 612 беременных позднего фертильного возраста ⅓ категорически отказались проходить скрининг из-за возможности получения негативных результатов [27]. Из ⅔ пациенток, прошедших скрининг, только у 37,2% женщин был выявлен низкий риск. Среди получивших заключение о высоком риске генетических аномалий на инвазивное обследование дали согласие лишь 75% [27]. В связи с этим в литературе уделяется большое внимание просветительской работе среди беременных старше 40 лет и их партнеров с целью объяснения необходимости и целесообразности этих процедур.
Все вышеизложенное свидетельствует об отсутствии единого мнения исследователей по поводу основного фактора, обусловливающего снижение репродуктивной функции у женщин позднего фертильного возраста. Возможно, что ни «возраст яичников», ни «возраст матки», ни изменения ядра и цитоплазмы ооцитов, ни меняющийся с возрастом гормональный профиль женщины не могут считаться изолированной причиной снижения способности к зачатию и вынашиванию после 40 лет. Бесспорно, единственно верным решением будет рассматривать все эти факторы в комплексе.
Экстрагенитальные и гинекологические заболевания у беременных позднего фертильного возраста
Известно, что наличие экстрагенитальной патологии во время беременности ведет к росту числа осложнений гестации. По данным отечественных и зарубежных исследователей, частота экстрагенитальных заболеваний у женщин в 30–34 года составляет 16,9%, в 35–39 лет – 24,8%, в 40 лет и старше – от 44,9 до 79,8% [32, 33].
Из курса физиологического акушерства известно, что в организме женщины во время беременности происходят перестройка гормонального фона, изменения метаболических процессов, снижение клеточного иммунитета и толерантности к углеводам, повышение в крови холестерина и триглицеридов, повышение массы тела [33]. Все эти процессы наслаиваются на возрастной период женщины, что, несомненно, осложняет течение гестации [33, 34].
Часто встречающимися соматическими заболеваниями, которые увеличиваются с возрастом, являются заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения жирового обмена, эндокринные нарушения и т.д. Особенно следует отметить, что происходит омоложение соматической патологии и часто совпадает с фертильным возрастом у женщин 35–45 лет. Экстрагенитальные заболевания считаются фактором риска развития различных акушерских осложнений не только у женщин позднего фертильного возраста [35, 36]. Установлено, что увеличить частоту раннего токсикоза способны различные заболевания ЖКТ. На фоне артериальной гипертензии может развиться тяжелая преэклампсия (ПЭ), которая может стать причиной преждевременных родов, преждевременной отслойки плаценты, синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и HELLP-синдрома, перинатальной и материнской смертности [3, 33, 37].
Большинство ученых считают, что возраст женщины старше 40 лет является дополнительным фактором риска развития гипертензии беременных [1, 32]. Частота артериальной гипертензии составляет 6,3–25%, что значительно выше, чем у более молодых беременных [1, 3]. Как уже говорилось выше, причиной отслойки плаценты у беременной женщины может служить также и повышение артериального давления. Результаты исследования Шехтмана М.М. показали, что в группе женщин, которые страдают артериальной гипертензией, отслойка плаценты возможна в 2,4 раза чаще, чем у беременных с нормальным артериальным давлением [3, 36, 37].
Также установлено, что с возрастом увеличиваются эндокринные нарушения, в частности сахарный диабет 2 типа и гестационный сахарный диабет, достигающий максимума в возрасте 40 лет и старше. По различным сведениям, их распространенность в исследуемой возрастной группе пациенток составляет 0,6–14% [36].
За последние 10 лет в акушерской практике все чаще встречаются гепатозы беременных, различные формы которых имеют много общих симптомов, но их течение, прогноз и осложнения для беременной и ее плода могут быть различными [39]. Внутрипеченочный холестаз (ВПХ) – это наиболее часто встречающаяся форма патологии печени у беременных. При этом известно, что риск появления ВПХ у беременных старше 39 лет в 3 раза выше, чем у женщин моложе 30 лет [38, 39]. Считается, что причиной развития HELLP-синдрома и острого жирового гепатоза может стать ВПХ [39]. Конкретная причина данного заболевания по сей день остается вопросом для дискуссии, однако предрасполагающими причинами принято считать генетические и гормональные нарушения в организме беременной, а также ее возраст [36, 38].
Среди экстрагенитальных заболеваний большое внимание в научных исследованиях уделяется тромбофилическим осложнениям, характерным для беременных пациенток позднего фертильного возраста. Данная патология выявляется у 37,8% беременных старше 35 лет с ПЭ, у 66,7% – с фетоплацентарной недостаточностью, у 52,9% – с синдромом задержки роста плода (СЗРП). В целом тромбофилия выявляется в 40,3% случаев, сопровождающихся отягощенным течением гестационного процесса [36, 40].
Чаще всего у беременных старше 35 лет встречаются приобретенные тромбофилии. Так, антифосфолипидный синдром выявляется в среднем в 62,1% случаев, гипергомоцистеинемия – в 36,2%, мутация FV Leiden – в 6,9%. В структуре мультигенной тромбофилии самую большую долю, как правило, составляет полиморфизм PAI-1 «675 4G/5G», мутация MTHFR С677Т. Также, по данным исследователей, большой риск венозных тромбозов выявляется у женщин старше 35–40 лет не только во время беременности и родов, но и в послеродовом периоде, особенно в первые 6 недель [35, 36, 40].
Патология щитовидной железы встречается в среднем у 5,8–32% женщин позднего фертильного возраста и может быть причиной невынашивания, ПЭ, аномалий родовой деятельности, хронической внутриутробной гипоксии и СЗРП [36].
Избыточная масса тела встречается у более чем 25% беременных позднего фертильного возраста. При этом частота ожирения колеблется от 13,8% у первородящих старше 40 лет до 34–62% у многорожавших этой группы [40].
Часто женщины позднего фертильного возраста страдают и разной гинекологической патологией. По различным источникам, гинекологические заболевания в анамнезе выявлены у 48–60% беременных позднего фертильного возраста. Доминируют среди них гиперпластические процессы эндометрия, которые встречаются у 80% пациенток [13]. При этом размеры тела матки превышают нормативные значения этой возрастной группы. В структуре гиперпластических процессов эндометрия лидирующую позицию занимает железистая и железисто-кистозная гиперплазия эндометрия – 51%, полипы эндометрия – 45%, атипическая гиперплазия (аденоматоз) – 4% [11, 13].
Следующее по частоте встречаемости гинекологических заболеваний у женщин позднего фертильного возраста – миома матки (ММ) (59%) [13, 41]. Еще 30 лет назад ученые обратили внимание на то, что среди беременных с ММ были первородящие (58%), причем основная масса этих пациенток была в возрасте старше 30 лет [1]. Современные данные отмечают две усиливающиеся тенденции: омоложение патологического процесса. с одной стороны, и увеличение числа беременных с ММ в возрасте старше 35 лет, с другой [1, 11, 13]. Актуальность этой патологии у женщин позднего фертильного возраста обоснована не только увеличением частоты ее встречаемости, но и связанным с ней ростом числа осложнений со стороны матери и плода, необходимостью расширения объема оперативного вмешательства во время родов [1, 9].
Зарубежными и отечественными исследователями установлено, что у каждой десятой в мире женщины выявляется ММ. При этом, чем старше, тем чаще, – у 20% женщин старше 30 лет и у 40% женщин старше 50 лет. У женщин старше 40 лет частота составляет в среднем 24–25% [13, 37, 41]. Вероятно, такой рост числа беременностей у женщин после 35–40 лет с ММ обоснован современной тенденцией к органосохраняющим операциям. Если в 90-е годы прошлого столетия при наличии некроза миоматозных узлов выполнялись радикальные операции (ампутация, экстирпация матки), то в современном мире основным методом является проведение консервативной миомэктомии. В современной литературе отмечается значимость аналогичных операций в любом возрасте, позволяющих сохранить в дальнейшем репродуктивное здоровье, менструальную функцию и улучшить качество жизни женщин.
В современной медицинской литературе имеются единичные данные о специфике течения беременности при опухолях яичников у женщин старше 40 лет. Чаще с беременностью сочетаются доброкачественные опухоли яичников. Среди них дермоидные кисты составляют 45%, муцинозные цистаденомы – 22%, серозные цистаденомы – 21% [36]. Как известно, с увеличением возраста женщины происходит постепенное увеличение заболеваемости всеми видами злокачественных опухолей гениталий [36].
По разным сведениям, у 16–28% беременных позднего фертильного возраста встречаются воспалительные заболевания женских половых органов в анамнезе. Причем их число обосновано большим количеством искусственных (39,3%) и самопроизвольных (15,3%) абортов в этом возрасте [3, 42]. С возрастом увеличивается и частота оперативных вмешательств на органах малого таза, которые, несомненно, влияют на фертильность женщин.
Заключение
Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью отметить, что частота экстрагенитальной и генитальной патологии у женщины увеличивается соответственно увеличению возраста. Поэтому всех женщин позднего фертильного возраста необходимо отнести в группу высокого риска развития перинатальных осложнений. Прегравидарная подготовка, которая включает тщательное обследование и адекватную терапию соматических заболеваний и гинекологической патологии у пациенток позднего фертильного возраста, приведет к сокращению количества осложнений гестации и улучшению перинатальных исходов в данной группе.