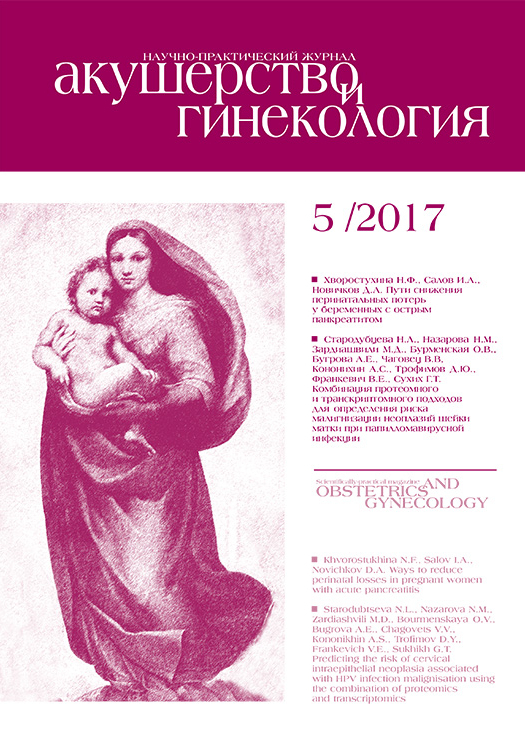Одной из высокочувствительных методик в диагностике заболеваний считается магнитно-резонансная томография (МРТ), однако клиническое использование функциональных методов МРТ в гинекологии не распространено. Их возможности до конца не определены и имеют перспективы для использования в хирургии.
МРТ – метод, основанный на явлении магнитного резонанса ядер водорода, которые взаимодействуют с внешним магнитным полем [1]. В результате магнитные моменты ядер водорода (или их спины) ориентируются по направлению силовых линий и начинают вращаться с частотой, прямо пропорциональной напряженности поля. Ядра водорода начинают поглощать подаваемую электромагнитную энергию. Получаемый сигнал обрабатывают с помощью Фурье-преобразования, что и создает на магнитно-резонансной томограмме подробную анатомическую картину «срезов» тканей и органов [2–5].
МРТ характеризуется высокой степенью тканевого контраста, позволяющей оценить анатомию и структуру внутренних органов и мягких тканей, взаимосвязь и взаимоотношение с соседними органами, а его использование в диагностике гинекологических заболеваний позволяет снизить необходимость в инвазивных процедурах [6]. К преимуществам МРТ относятся: неинвазивность, отсутствие ионизирующего излучения, высокий тканевой контраст, возможность получения изображения в любой плоскости. МРТ является уточняющим методом и позволяет дифференцировать анатомические особенности матки [2, 7].
Основные показания к проведению классической МРТ в гинекологии: подозрение на пороки развития (в случае недостаточной информативности ультразвукового исследования); выявление новообразований гениталий; оценка динамики опухолевых процессов до и после лечения; необходимость оценки размеров костей таза (пельвиометрия, в том числе при подготовке к родам) и мягких тканей (тазового дна), а также при выявлении аномалий развития плода. Возможно применение МРТ во время беременности при предлежании плаценты, определении степени ее врастания. МРТ показана при развитии у беременной острой жировой дегенерации печени, эклампсии (для оценки состояния головного мозга), при впервые выявленной опухоли [1, 2, 8–10].
Противопоказания к проведению МРТ: наличие искусственного водителя ритма или других функционирующих электронных устройств, ферромагнитных хирургических материалов, кохлеарных имплантатов [11–13]. Применение МРТ ограничено при выраженной клаустрофобии пациента, однако этот вопрос решается превентивным приемом транквилизаторов, и в первом триместре беременности [14].
Методика МРТ
К стандартной, классической (конвенциональной) МРТ относится получение изображений в Т1- и Т2-взвешенных режимах (Т1-ВИ и Т2-ВИ). При Т1-ВИ (продольное время релаксации или спин-решеточная) оценивают анатомию таза, а также состояние лимфоузлов и структур с высоким содержанием жира. Т2-ВИ (поперечное время релаксации или спин-спиновая) позволяет оптимально визуализировать матку и яичники за счет лучшего контраста мягких тканей. При пороках матки преимущественно используют Т2 режим [1, 9, 15–18].
Разрешающая способность сканера зависит от многих факторов, в том числе от индукции магнитного поля. Томографы закрытого типа позволяют создать высокий уровень индукции магнитного поля (до 9 Тесла, Тл), однако при увеличении ее значений повышается количество артефактов от движущихся структур и неоднородных сред (пульсация сосудов, содержимое кишечника). Поэтому в настоящее время для клинического применения в МР-томографах используется магнитное поле до 3 Тл [17, 19].
Функциональные методики МРТ
Функциональными называют методики МРТ, позволяющие провести морфологический и функциональный анализ органов малого таза. К ним относятся диффузионная (диффузионно-взвешенная, диффузионно-тензорная МРТ), МРТ с контрастированием [20–22]. Реже в гинекологической практике применяется перфузионная МРТ (используется для визуализации гемодинамических параметров), разновидностями которой являются динамическая контраст-усиленная МРТ, BOLD-МРТ (от англ. blood oxygen level dependent), ASL-МРТ (от англ. arterial spin labeling) [8, 23].
Диффузионная МРТ. Диффузионно-взвешенное изображение (ДВИ) предоставляет информацию о тканях, клетках и целостности клеточных мембран. Основой ДВИ является броуновское движение молекул воды в тканях, при этом регистрируются различия видимой диффузии воды между разными тканями. Диффузия в опухолевой ткани будет зависеть от плотности упаковки клеток. Количественно диффузию воды оценивают с помощью измеряемого коэффициента диффузии. Опухоли женской репродуктивной системы демонстрируют более низкие значения измеряемого коэффициента диффузии и появляются на ДВИ как область высокой интенсивности сигнала по сравнению с нормальной тканью [24–26]. ДВИ используется для диагностики опухолей шейки матки, эндометрия и прогнозирования исхода химио/лучевой терапии [27, 28]. Sato сообщает, что ДВИ позволяет дифференцировать доброкачественные и злокачественные образования в полости матки [29].
D.P. Dunn с соавт. (2015) сообщают о применении ДВИ при воспалительных, инфекционных, ишемических процессах, влияющих на мочеполовую систему, а также в оценке глубины проникновения эндометриоидной ткани при аденомиозе и экстрагенитальном эндометриозе. Патологическая ткань демонстрирует устойчиво низкий измеряемый коэффициент диффузии во всех областях поражения [30, 31].
В использовании диффузионной МРТ есть ограничения, обусловленные клеточными характеристиками. При злокачественных высокодифференцированных опухолях, а также при низкодифференцированных некротических опухолях диффузия молекул воды будет гораздо менее ограничена. Другим отрицательным моментом являются ложноположительные гиперинтенсивные сигналы на ДВИ, обусловленные высокой клеточной плотностью реактивно измененных нормальных тканей (лимфоузлов, эндометрия) [24, 32, 33].
BOLD-контрастирование (контрастность, зависящая от степени насыщения крови кислородом) – методика функциональной МРТ, основанная на колебаниях магнитной восприимчивости тканей в зависимости от повышения уровня оксигемоглобина и соответственного снижения карбоксигемоглобина в ответ на изменения гемодинамики [9, 17]. Для визуализации BOLD-эффекта рекомендована высокопольная МРТ (не менее 1,5 Т). В качестве функциональной нагрузки используется вдыхание пациентом кислорода в течение определенного времени.
В литературе присутствуют данные единичных исследований, изучающих потенциальное применение BOLD-МРТ при раке шейки матки. Предполагается, что гипоксия может быть плохим прогностическим фактором опухоли [34]. Приведены результаты исследований размеров хорошо васкуляризированных злокачественных опухолей шейки матки, определенных с помощью BOLD-МРТ до и после химиолучевой терапии: показано, что уровень оксигенации опухоли значимо коррелирует с ее размером после терапии, то есть может служить предиктором терапевтического прогноза при раке шейки матки [35].
А. Sørensen с соавт. (2013) использовали BOLD-МРТ для оценки плацентарного кровотока у здоровых беременных женщин. Было выявлено, что в условиях гипероксии кровоток существенно меняется, причем в большей степени в плодовой части плаценты [36].
ASL-МРТ (маркировка артериальных спинов) представляет собой методику перфузионной МРТ, при которой в качестве индикатора перфузии (эндогенного контраста) используют воду, входящую в состав артериальной крови. Магнитные метки вместе с молекулами воды попадают в исследуемую область со скоростью, равной локальной скорости кровотока, и, попадая в ткань, изменяют ее контрастность [37]. Преимуществом ASL-МРТ является ее неинвазивность, что позволило применять методику с целью измерения региональной перфузии в нейрофизиологии у пациентов с поражениями головного мозга гипоперфузионного и гиперперфузионного характера [38–41].
В литературе отсутствуют данные об использовании ASL-МРТ в гинекологии. Ведутся исследования возможностей ее применения для оценки перфузии матки у животных [42].
Функциональная кино-МРТ представляет собой множество последовательных изображений одного и того же слоя в соответствии с фазами активного сокращения (например, сердечного цикла, перистальтики). Кино-МРТ может использоваться для оценки сокращений матки в различных условиях и при различных расстройствах, а также для определения слабости мышц тазового дна [22].
В некоторых клинических ситуациях, когда по тем или иным причинам визуализация объекта (чаще новообразования) затруднена, перфузионные МРТ-методики с применением контрастных препаратов (агентов) могут существенно повысить информативность исследования. Чаще всего в качестве контраста используют препараты гадолиния (Gd) – металлического элемента с сильной парамагнитной восприимчивостью. Контраст вводится внутривенно и быстро перераспределяется во внеклеточной жидкости. Gd оказывает эффект сокращения времени Т1 в тканях его максимального накопления, и на постконтрастных Т1-ВИ сигнал будет значительно повышен [17]. Обычная контраст-усиленная МРТ используется в гинекологии уже около 20 лет и представляет собой получение первого пакета Т1-ВИ до контрастирования и второго – после введения контрастного препарата. Повышенное накопление контраста в опухолевых тканях или миоматозном узле позволяет оценить размеры, границы образования, степень инвазии, особенности кровоснабжения [8, 43, 44].
С развитием аппаратов и импульсных последовательностей стало возможным применение динамической контрастной МРТ (динамическая контраст-усиленная МРТ, ДКУ-МРТ) – последовательное получение изображений одного и того же тканевого объема неоднократно до, во время и после болюсного введения контраста. Интенсивность усиления сигнала связана с сосудистой плотностью ткани, а скорость снижения (вымывания) зависит от ангиогенных (эндотелиальных) факторов [45]. В результате разработки соответствующих приложений радиологи возможно получать более полную и подробную информацию о перфузии опухоли, проницаемости капилляров, а также степени опухолевой дифференцировки, гистологическую характеристику до и после терапии, антиангиогенный ответ на вмешательство и прогноз лечения [46].
В онкогинекологии ДКУ-МРТ получила широкое распространение при исследовании рака шейки матки и рака эндометрия. Методика продемонстрировала способность выявлять рак шейки матки на ранних стадиях за счет измерения интенсивности сигнала в зоне интереса, когда его сложно обнаружить методами визуальной диагностики, в том числе на Т2-ВИ [47–50]. Применение ДКУ-МРТ значимо улучшает обнаружение малых опухолей шейки с глубиной инвазии 3–5 мм по сравнению с Т2-ВИ, чувствительность динамических Т1-ВИ – 92%, а нативных Т2-ВИ – 23% [51, 52]. При раке эндометрия ДКУ-МРТ также более чувствительна, хоть и менее точна, чем Т2-ВИ, с точки зрения предоперационной диагностики раннего рака и оценки его риска [53]. Методика позволяет оценить ранний терапевтический ответ на проведение химиолучевой терапии [35].
L.-M. Wu сообщает, что по результатам мета-анализа литературы за 17-летний период (11 исследований, всего 548 пациентов) была определена объединенная чувствительность и специфичность методики ДКУ-МРТ в диагностике поражений эндометрия, которые составили 0,81 и 0,72 соответственно и значимо превышали аналогичные параметры для Т2-ВИ [44].
ДКУ-МРТ позволяет оценить тип васкуляризации миоматозного узла посредством оценки кинетики контрастного препарата для выбора оптимального размера эмболизирующего материала при эмболизации маточных артерий. Данная методика позволяет определить наиболее подходящий размер частиц для снижения выраженности болевого синдрома после процедуры [54].
В зависимости от временного разрешения ДКУ-МРТ может быть разделена на несколько подвидов, и это определяет импульсную последовательность для ее выполнения [46].
Использование быстрых импульсных последовательностей (например VIBE, LAVA) обеспечивает временное разрешение от 10 сек до 1 мин, при этом изображения имеют хорошее пространственное разрешение, высокий тканевой контраст, практически не имеют артефактов и обеспечивают высокую анатомическую детализацию. ДКУ-МРТ, основанная на данных импульсных последовательностях, используется для оценки кинетики контрастного препарата в опухолевых тканях и выявления гиперваскулярных новообразований (например исследования печени, почек, гипофиза). При выполнении данной методики возможно оценить не только кинетику препарата, но и четко выявить границы и структуру образования. Оценить перфузию при использовании данной методики невозможно из-за низкого временного разрешения.
Использование эхопланарной последовательности обеспечивает временное разрешение в пределах одной секунды для получения тканевой перфузии (МР-перфузия). Эта методика получила широкое распространение при исследованиях головного мозга для оценки гемодинамики опухолей, при дифференциальной диагностики его поражений, для оценки эффекта от химио- и лучевой терапии, при черепно-мозговых травмах, ишемических повреждений центральной нервной системы. Однако эхопланарные импульсные последовательности имеют ряд недостатков. Прежде всего, это крайне низкое пространственное разрешение, во-вторых, это существенные артефакты на границе раздела сред (например воздух-ткань) и в-третьих – низкий тканевой контраст, что затрудняет использование методики в других анатомических зонах.
Использование сверхбыстрых импульсных последовательностей, основанных на получении Т1-взвешенных изображений (например TWIST) позволяет получить временное разрешение 3–5 секунд и с одной стороны не позволяет достоверно оценить тканевую перфузию, но с другой стороны, пространственное и тканевое разрешение у этих импульсных последовательностей выше, артефакты выражены гораздо слабее, что позволяет использовать данные импульсные последовательности не только для головного мозга, но и для других органов. Клиническое применение этой методики идентично МР-перфузии.
Целесообразно изучение интенсивности кровотока и микроциркуляции непосредственно в миометрии и рудиментарных локусах при аномалиях матки. Поскольку репродуктивные исходы и прогноз течения беременности зависят от анатомической формы аномалии и интенсивности кровообращения в миометрии [55, 56].
Методика МРТ при аномалиях развития внутренних половых органов
Для визуализации органов малого таза и брюшной полости при аномалиях развития внутренних половых органов получают Т2-ВИ в сагиттальной, коронарной или фронтальной, косых аксиальной или трансверзальной (вдоль длинника тела матки) и косой коронарной (перпендикулярно длиннику тела матки) проекциях. При подозрении на наличие в области исследования продуктов биодеградации гемоглобина (геморрагий и гематом в полости малого таза, гематометры или гематокольпоса, гематосальпингса, эндометриоидных кист яичников, гемоперитонеума) используют получение Т1-ВИ. Толщину среза выбирают от 0,3 до 0,4 см, поле зрения – от 28 до 36 см, с разрешением не более 0,1 см на пиксель. При исследовании мочевыводящих путей и для обнаружения свободной жидкости в малом тазу наиболее эффективно получение Т2-ВИ с помощью импульсной последовательности TSE в варианте МР-гидрографии (иногда называемом МР-миелография или МР-урография). Толщину среза выбирают от 0,6 до 60 см, поле зрения – от 28 до 38 см, с разрешением от 0,1 до 0,2 см на пиксель. При выполнении исследования полностью охватывают все области возможного расположения внутренних половых органов: матки, яичников и влагалища [2, 9, 57].
Динамическое сканирование выполняют с использованием импульсной последовательности TWIST (временное разрешение 3 секунды, 36 срезов по 3,5 мм). По результатам строят кривые кинетики накопления и выведения контрастного препарата в зонах интереса. Локусы исследования возможно выбирать произвольно.
Оценку кинетики контрастного препарата проводят путем построения параметрических карт (WI, WO, TTP, PEI, MIP-time) с кодированием в цветовой шкале (красный цвет – максимальное, а синий – минимальное значение соответствующего параметра карты).
Изложенная методика МРТ позволяет достоверно изучить анатомическую форму аномалии матки и влагалища, используя срезы, ориентированные по плоскости матки для оценки наружно-внутреннего контура, изучить кровоток с помощью кривых кинетики препарата и визуально с помощью цветовых картограмм.
При различных аномалиях матки метод ДКУ-МРТ позволяет изучить кровоток в различных локусах миометрия и во внутриматочной перегородке и в зависимости от показателей выбрать тактику хирургического лечения и ведения беременности [58].
Заключение
Как следует из проведенного анализа литературы, функциональные методы МРТ в гинекологической практике применяются достаточно редко, однако имеют большие перспективы в хирургии.
Наибольшее применение функциональная МРТ нашла в гинекологической онкологии [48, 59] для получения полных высококонтрастных изображений рака шейки матки и эндометрия как самых частых злокачественных новообразований женской репродуктивной системы [19]. Функциональные методы МРТ позволяют получить данные о биологических особенностях тканей, стадийности опухоли, подверженности терапии и потенциально могут предсказывать исход заболевания [60].
С помощью данных методик возможно перейти от визуализации анатомических нарушений к функциональной диагностике на гемодинамическом, тканевом, клеточном уровнях, что способствует выбору тактики лечения и ее контролю [21, 24].
ДКУ-МРТ позволяет оценить тип гемодинамики при доброкачественных образованиях матки (в миоматозных узлах, узлах аденомиоза), что позволяет хирургам выбрать оптимальную тактику лечения.
Аналогично измерениям параметров мозгового кровотока при ишемических повреждениях головного мозга возможно использовать перфузионные методы для количественной оценки кровотока в рудиментарных локусах матки при аномалиях развития с помощью кривых кинетики препарата и визуально с помощью цветовых картограмм. В зависимости от показателей выбрать тактику хирургического лечения и ведения беременности.
Представляет интерес использование функциональных методик МРТ для изучения перфузии при двурогой матке и ее удвоении, что имеет значение при выборе гемиполости с лучшими условиями кровоснабжения для переноса эмбриона в программе ЭКО.