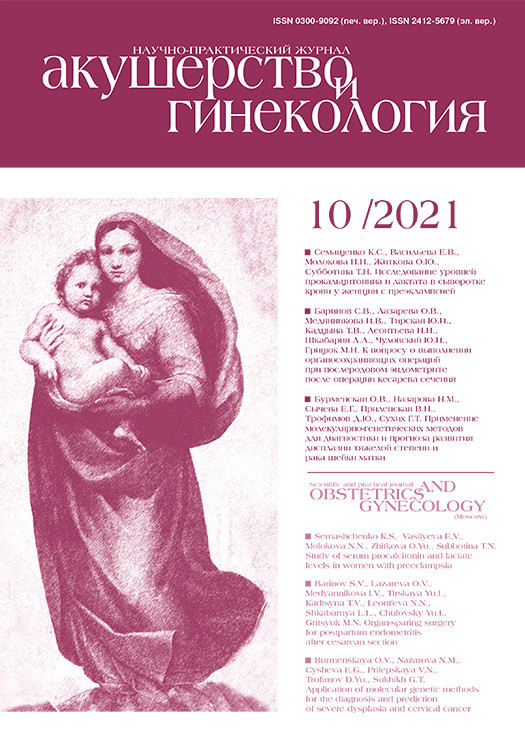В последние десятилетия отмечается значительное увеличение частоты наступления многоплодной беременности, которая варьирует от 3 до 40 случаев на 1000 родов в зависимости от географической зоны проживания, расово-этнической принадлежности, распространенности методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [1–4]. Частота самопроизвольного наступления монохориальной беременности двойней популяционно одинакова во всех странах и составляет 1 случай на 300 беременностей. Отмечается увеличение частоты наступления монохориального многоплодия в результате проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий – 1 случай на 50 беременностей при проведении экстракорпорального оплодотворения и 1 случай на 25 беременностей при проведении индукции овуляции [5].
При многоплодной беременности перинатальные риски значительно выше, чем при одноплодной. В связи с этим многоплодную беременность, которую считают моделью фетоплацентарной недостаточности, относят к осложненной беременности. Однако наиболее проблемной является беременность при монохориальном типе плацентации, на долю которой приходится до 60% всех осложнений, при этом вероятность гибели второго плода и развития неврологических осложнений у новорожденного в три раза выше по сравнению с таковой при дихориальном типе многоплодия [6]. Материнская смертность при многоплодной беременности в 2,5 раза выше, а перинатальные потери – в 9‒11 раз превышают таковые при одноплодной беременности [1–4].
К специфическим осложнениям монохориального многоплодия относят синдром селективной задержки роста плода (10–15%) [7], фето-фетальный трансфузионный синдром (10–15%) [8], синдром анемии-полицитемии (3–5%) [9], синдром обратной артериальной перфузии (2,6%) [10].
Аномалии развития одного из плодов при многоплодии встречаются в 600 случаев на 10 000 рожденных двоен, при этом вероятность хромосомных заболеваний при монохориальном типе плацентации в 2,5 раза выше по сравнению с дихориальным [11, 12]. Стоит отметить, что лишь 27,3% структурных аномалий при беременности двойней устанавливаются во время скрининга I триместра [12].
Синдром селективной задержки роста одного из плодов (ССЗРП) осложняет около 10–15% монохориальных многоплодных беременностей и значимо повышает вероятность антенатальной гибели одного из плодов, тяжелых неврологических осложнений у новорожденных, ухудшая перинатальные исходы [13–18]. Данный синдром характеризуется дискордантностью массы плодов более 25% и/или снижением массы одного из плодов менее 10 перцентиля, а также нарушением кровотока в артерии пуповины по данным УЗ-допплерографии [19].
ССЗРП при монохориальном диамниотическом многоплодии является причиной гибели плода с задержкой роста [20, 21] вследствие острого нарушения плодово-плацентарного кровообращения с последующим развитием острой межблизнецовой трансфузии к живому близнецу, что в 15–20% случаев приводит к его гибели, а в случае выживания – тяжелой неврологической патологии, частота которой достигает 20–30% [22]. ССЗРП – одна из основных причин перинатальных потерь и преждевременных родов при многоплодии. В связи с этим повышенный интерес к проблеме ССЗРП обусловлен не только высокой перинатальной смертностью и заболеваемостью, но и неблагоприятными последствиями для здоровья, вплоть до инвалидизации выжившего плода [23, 24].
Патогенез синдрома селективной задержки роста плода при монохориальной многоплодной беременности до сих пор полностью не изучен. Монохориальная беременность является уникальной моделью для изучения нарушений роста и развития плодов, обусловленных особенностями плацентации. Установлена прямо пропорциональная зависимость между размерами доли плаценты и массой новорожденного [14]. Недостаточный объем плаценты ввиду измененной перфузии в сочетании с несбалансированными артерио-артериальными анастомозами между близнецами приводят к развитию ССЗРП. Более того, недостаточное кровоснабжение служит причиной ишемии, гипоксии и реперфузии, которые, в свою очередь, являются триггерами избыточного окислительного стресса на территории части плаценты меньшего плода [25]. Исследования показали, что окислительный стресс способствует развитию таких осложнений как гестационный сахарный диабет, преэклампсия и задержка роста плода [26, 27]. Одной из возможных причин развития ССЗРП является плацентарная дисфункция, обусловленная морфофункциональными изменениями в плаценте и сопровождающаяся нарушением транспортной, трофической, эндокринной и метаболической функций, а также комплексная реакция плода и плаценты на различные патологические состояния материнского организма [26–28].
Успехи молекулярно-биологических исследований позволили предположить роль некоторых молекул, ассоциированных с ССЗРП при монохориальном типе плацентации.
Целью данного обзора является изучение молекулярных детерминант развития ССЗРП и перспективы дальнейших исследований в плане предикции на доклиническом этапе.
Особенности ангио- и васкулогенеза плаценты
Несмотря на то, что неравномерное разделение и артерио-артериальные анастомозы плаценты играют существенную роль в патофизиологии синдрома селективной задержки роста плода [28], в настоящее время имеются убедительные доказательства того, что нарушение процессов васкулогенеза и ангиогенеза вносит не менее значимый вклад в развитие данного осложнения монохориального многоплодия [29]. Васкулогенез – это образование и развитие кровеносных сосудов из мезодермальных клеток, в то время как ангиогенез – это создание новых сосудов из уже существующих сосудов. Данные процессы участвуют в транспортировке кислорода, питательных веществ, выведении продуктов обмена и регулируются благодаря многочисленным ангиогенным и антиангиогенным факторам роста и их рецепторам.
Наиболее значимыми из ангиогенных факторов являются белки группы сосудисто-эндотелиальных факторов, в частности фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), фактор роста плаценты (PlGF), ангиопоэтин-1 (Ang-1), ангиопоэтин-2 (Ang-2). Продукция антиангиогенных факторов – неотъемлемая часть нормального ангиогенеза. К ним относятся растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) и растворимый эндоглин (sEng). Растворимые формы этих рецепторов способны связывать сосудистые факторы роста, замедляя или блокируя процессы ангиогенеза. Дисбаланс факторов ангиогенеза приводит к аберрантному развитию сосудов плаценты. Ангиогенные и антиогенные факторы также секретируются в материнское кровообращение, где они помогают нормальной адаптации сердечно-сосудистой системы матери к беременности.
В исследовании Yinon Y. et al. [28] доказано снижение активности ангиогенных факторов при осложненном течении монохориального многоплодия. Авторами определялись уровни рецепторов васкулоэндотелиального фактора роста 1 (sVEGFR-1), плацентарного фактора роста (PLGF) и растворимого эндоглина (sEng) при монохориальной диамниотической беременности, осложненной ФФТС и ССЗРП. Образцы материнской плазмы брали между 13–20 и 21–28 неделями беременности, а образцы пуповинной крови собирали при родах. Концентрации sVEGFR-1, PLGF и sEng в плазме матери, а также уровни sVEGFR-1 в пуповинной крови оценивали с помощью иммуноферментного анализа. Уровни sVEGFR-1 и sEng в плазме крови матери были значительно выше у пациенток с ФФТС в начале и конце II триместра по сравнению с нормальными монохориальными беременностями (P<0,01). Напротив, в группе с ССЗРП уровни sVEGFR-1 и sEng были значительно выше только в конце II триместра (P<0,05). Уровни PLGF были значительно ниже в начале и конце II триместра как при ФФТС, так и при ССЗРП по сравнению с контрольной группой (P<0,01). Концентрации sVEGFR-1 в плазме были значительно выше среди беременных при ФФТС по сравнению с ССЗРП в конце II триместра (P=0,027). Уровень sVEGFR-1 в пуповинной крови был значительно выше у меньшего плода с ССЗРП по сравнению с нормальным плодом. Полученные результаты показывают, что при ФФТС и ССЗРП наблюдается снижение ангиогенных факторов.
Вклад родительских специфических генов. Факторы роста плода
В настоящее время количество исследований, посвященных изучению молекулярных особенностей развития ССЗРП, сравнительно невелико. Имеются сведения о том, что материнский импринтированный ген (PHLDA2) и отцовский импринтированный ген (IGF2) могут быть причиной формирования ССЗРП [30]. IGF2 – одноцепочечный слабокислый белок, состоящий из 67 аминокислот и располагающийся в 11 хромосоме. IGF2 является одним из основных факторов роста плода во внутриутробном периоде. Концентрация IGF2 в крови беременных женщин повышается по мере прогрессирования беременности; достигает своего пика на поздних сроках беременности и стремительно снижается после родов. IGF2 способствует росту и развитию плода, клеточной пролиферации и дифференцировке, клеточному метаболизму и имплантации эмбриона. Исследования показали, что повышенная экспрессия IGF2 может привести к слишком быстрому росту плода и патологии плаценты [30]. Ген PHLDA2 также расположен в 11 хромосоме, которая является родительским импринтированным геном. Геномный импринтинг – эпигенетический процесс, при котором экспрессия определенных генов осуществляется в зависимости от того, от какого родителя поступили аллели. Уровень экспрессии PHLDA2 в плаценте изменяется во время беременности, достигая минимального значения к 31 неделе. PHLDA2 влияет на функционирование плаценты за счет уменьшения ее объема, что приводит к снижению массы тела новорожденного. Экспрессия PHLDA2 также может вызывать патологию развития плаценты, снижение ее функции и оказывать влияние на развитие плода и перинатальный исход [31].
В исследовании Chen J. et al. [31] проведено сравнение экспрессии IGF2 и PHLDA2 в периферической крови матери, пуповинной крови плодов и плаценте при ССЗРП и при нормально протекающей беременности двойней. В материнской сыворотке при ССЗРП уровень экспрессии IGF2 был значительно ниже, чем при нормальной беременности, в то время как концентрация PHLDA2 в сравниваемых группах не имела существенной разницы. PHLDA2 в пуповинной крови меньшего плода был значительно выше, чем у плода с нормальной массой тела. В плаценте при ССЗРП выявлена более высокая экспрессия PHLDA2. Таким образом, исследователями была сформирована гипотеза: PHLDA2 отцовского импринтированного гена имеет отрицательную корреляцию с экспрессией материнского импринтированного гена на плаценту и рост плода. Следовательно, при ССЗРП в плаценте повышается экспрессия PHLDA2 и снижается экспрессия IGF2, приводящие к нарушению функционирования плаценты и низкой массы тела плода при рождении. Результаты данного исследования показывают, что PHLDA2 и IGF2 могут играть существенную роль в развитии ССЗРП при монохориальной многоплодной беременности.
Эпигенетические факторы
В настоящее время огромное внимание уделяется изучению эпигенетических модификаций генома в связи с их значительной ролью в процессах реализации наследственной информации.
Эпигенетическая регуляция влияет на все процессы, происходящие в организме, именно поэтому микроРНК обладает высоким прогностическим потенциалом и вызывает интерес у ученых и врачей. МикроРНК, специфичные для плаценты, играют одну из ключевых ролей в развитии ССЗРП при монохориальной двойне. МикроРНК представляют собой группу некодирующих молекул РНК длиной 21–25 нуклеотидов, которые играют важную роль в регулировании клеточных функций. МикроРНК обычно связывается с 3'-нетранслируемой областью целевого гена и отрицательно опосредует экспрессию генов [32]. Человеческий геном кодируется более 1000 микроРНК, и каждая из них может посттранскрипционно регулировать огромное количество генов. МикроРНК участвуют в регуляции ряда ключевых клеточных функций, включая миграцию клеток, инвазию, рост, дифференцировку и апоптоз [33]. Некоторые из микроРНК нацелены на гены, которые отвечают за процесс ангиогенеза, и, непосредственно, могут быть причиной ССЗРП [34, 35]. Митохондрии, которые являются важными внутриклеточными органеллами для образования энергии, могут стать дисфункциональными, что еще больше влияет на патологическое развитие плаценты [36]. Более того, микроРНК обозначены как потенциальные биомаркеры специфических для беременности заболеваний [37]. Однако существующая литература, конкретно посвященная роли микроРНК в случае ССЗРП при многоплодной беременности, немногочисленна. В исследовании Wen H. et al. [38] изучалась роль микроРНК-338-5p в клетках трофобласта. Результаты показали, что микроРНК-338-5p подавляется в тканях плаценты при СЗРП, тогда как EFEMP1 – эпидермальный фактор роста, содержащий фибулиноподобный экстраклеточный матриксный белок 1 повышается. Более того, было выявлено, что микроРНК-338-5p подавляет рост и инвазию клеток трофобласта и целевой EFEMP1 [38]. EFEMP1, также известный как фибулин-3 экспрессируется во всем теле и необходим для развития скелета [39]. В настоящее время, EFEMP1 широко признан антагонистом ангиогенеза.
Интересные результаты были получены группой исследователей из Китая [40]. Изучалась потенциальная роль miR‐210‐3p при патологическом развитии плаценты, возникающем в результате дисфункции клеток трофобласта. Функциональный анализ показал, что miR-210-3p, индуцированный фактор 1α (HIF1α) в условиях гипоксии подавлял пролиферацию и инвазионную активность трофобласта. Дальнейший анализ секвенирования РНК и репортерный анализ на люциферазу показали, что фактор роста фибробластов 1 (FGF1) является влиятельным геном-мишенью miR-210-3p. Более того, корреляции между уровнем miR‐210‐3p, экспрессией HIF1α и FGF1 и меньшей долей плаценты были подтверждены в образцах плаценты при ССЗРП. Эти данные предполагают, что повышенная регуляция miR-210-3p может способствовать нарушению функционирования части плаценты меньшего близнеца за счет снижения экспрессии FGF1.
Роль микроРНК была показана в исследовании Wen H. Et al. [41]. С помощью микрочипов были оценены различия в экспрессии микроРНК плаценты у меньшего и большего плодов при ССЗРП. Были обнаружены 14 микроРНК плаценты (7 с повышенной и 7 с пониженной регуляцией), выраженные у близнецов с нормальными массо-ростовыми показателями по сравнению с близнецами с ССЗРП. Дифференциально выраженные микроРНК включали те, которые ранее были связаны со специфическими для беременности осложнениями, такими как преждевременные роды и преэклампсия (miR-338, miR-590-5p и miR-1), и другие, которые являются новыми при заболеваниях, связанных с беременностью (miR-373-3p, miR-623, miR-4287, miR-664b-3p, miR-3653, miR-5189-5p, miR-370-3p, miR-5581-5p, miR-3622b-5p, miR-4535 и miR-4743-5p).
Исследование Li W. et al. [42] было проведено с целью выявления различий в транскриптомном профиле плаценты между близнецами с ССЗРП и нормально растущими близнецами при монохориальной диамниотической беременности. Это исследование было разделено на два этапа: (1) Фаза открытия гена: плацентарные ткани подвергались транскриптомному профилированию. Профили транскриптома проводили путем секвенирования полногеномной РНК; (2) Фаза валидации: ткани плаценты прошли валидацию на РНК и белок. Уровень экспрессии РНК и белков генов-кандидатов определяли с помощью количественной ПЦР в реальном времени и иммуногистохимического окрашивания (RNA and protein expression level of candidate genes were determined by quantitative real-time PCR and immunohistochemistry staining). Всего 1429 транскриптов дифференциально экспрессировались в плаценте близнецов с ССЗРП, из которых 610 были активированы, а 819 – подавлены. Лектин эндоплазматической сети и маннозо-6-фосфатный рецептор, играющие важную роль в ангиогенезе и росте плода, были повышены во всех плацентах близнецов с ССЗРП. Количественная ПЦР в реальном времени и иммуногистохимическое окрашивание подтвердили данные результаты (P<0,05).
Окислительный стресс может вызывать повышенную продукцию матричной ДНК в качестве компенсаторного эффекта, а дальнейшая продукция активных форм кислорода может вызывать декомпенсирующее окислительное повреждение митохондрий, нарушение перехода проницаемости митохондриальной мембраны и высвобождение проапоптотических белков [43]. Было доказано, что кровь плода с ССЗРП у монохориальных близнецов содержит значительно больше матричной ДНК, что свидетельствует о более высоком стрессовом состоянии плода [44]. В исследовании Meng M. et al. [45] профилировали полногеномную микроРНК между близнецами монохориальной диамниотической беременности осложненной ССЗРП, а также дополнительно исследовали влияние микроРНК на развитие плаценты, включая ангиогенез и митохондриальные функции. В тканях плаценты при ССЗРП было отмечено более высокое содержание матричной ДНК. Такое увеличение митохрондриальной ДНК является компенсаторной адаптацией метаболического механизма к окислительному стрессу в ответ на увеличенную потребность в энергии [43]. Уровни митохондриальной ДНК увеличены как в пуповинной крови, так и в околоплодных водах плодов с ССЗРП по сравнению с их нормальными близнецами [46], но неясно, такое увеличение связано с избыточной продукцией матричной ДНК, или с чрезмерным разрушением клеток и, как следствие, высвобождением большего количества матричной ДНК. Результаты показали, что микроРНК-199a-5p может играть существенную роль в плацентарном ангиогенезе, окислительном стрессе и повреждении митохондрий в качестве основного патогенетического механизма ССЗРП.
Эпигенетические модификации вызывают изменения экспрессии генов, которые могут наследоваться, но при этом не происходит нарушения нуклеотидной последовательности ДНК. Гидроксиметилирование ДНК – это стабильная эпигенетическая модификация, которая играет уникальную регуляторную роль в различных физиопатологических процессах [47]. Уровень гидроксиметилирования ДНК (level of genome wide DNA hydroxymethylation) значительно снижен в меньшей доле плаценты по сравнению с большей долей при ССЗРП, как показала технология ультраэффективной жидкостной хроматографии/тандемной масс-спектрометрии (UPLC MS / MS) [48] Ангиопоэтин-подобный 4 (ANGPTL4) – это чувствительный к гипоксии ген, регулирующий сосудистую проницаемость, ангиогенез и воспаление [49]. HIF-1α является важным фактором, индуцированным гипоксией, и было подтверждено, что он регулируют пролиферацию, апоптоз и толерантность к гипоксии [50]. ANGPTL4 также является мишенью индуцируемого гипоксией фактора 1α (HIF-1α), и он регулируется HIF-1α в различных типах клеток [51]. В нескольких исследованиях сообщалось о взаимосвязи гидроксиметилирования ДНК между HIF-1α и ANGPTL4 в плацентарной недостаточности и росте плода. Для подтверждения экспрессии ANGPTL4 использовали ПЦР в реальном времени, вестерн-блоттинг и иммуногистохимию. Механизмы, регулирующие ANGPTL4, исследовали с помощью анализа миграции клеток, инвазии, а также жизнеспособности и апоптотического соотношения, вестерн-блоттинга и hMeDIP-qPCR. Снижение ANGPTL4 было обнаружено в меньших долях плаценты у плода с ССЗРП. Нокдаун ANGPTL4 подавлял инвазию и миграцию трофобластов, что, возможно, происходило за счет индуцируемого гипоксией фактора 1α (HIF-1α) и сигнального пути HIF-1. Гипоксия приводит к аберрантной экспрессии ANGPTL4 и HIF-1α, что положительно коррелирует с их аберрантными уровнями гидроксиметилирования в промоторных областях. Аберрантное гидроксиметилирование ANGPTL4 может способствовать поражению плаценты за счет сигнального пути HIF-1 в меньшей доле плаценты у плода с ССЗРП [52].
Роль химеризма в развитии специфических осложнений при монохориальной двойне. Химеризм – это одновременное наличие в организме клеток разных генотипов. Данное патологическое состояние может возникать на разных стадиях развития организма: при оплодотворении, на этапе эмбрионального развития, а также во взрослом возрасте. Существует 4 типа химеризма: тетрагаметический (две яйцеклетки сливаются в одну, но каждая из них оплодотворена разными сперматозоидами), близнецовый (обмен клетками между близнецами в ходе внутриутробного развития через общую плаценту), посттрансплантационный (как следствие трасплантации органов и переливания крови) и микрохимеризм (передача клеток от плода к матери и наоборот). Современные исследования показывают, что химеризм – это довольно распространенное явление. В работе Chen K. et al. [53] изучалась пара разнополых монохориальных близнецов в течение 28 месяцев. Несмотря на разный пол плодов, у пациентки был обнаружен ФФТС, и впоследствии была проведена фетоскопия, селективная лазерная коагуляция сосудистых анастомозов плаценты на 26-й неделе беременности. Путем операции кесарево сечение на 37 неделе беременности родились девочка (массой 3487 г, длиной 49,5 см) и мальчик (массой 2892 г, длиной 48,5 см). Несмотря на проведение внутриутробной коррекции ФФТС за 3 месяца до родов, химеризм сохранялся и после рождения. Было обнаружено, что плод-реципиент имел более значительный химеризм, чем плод-донор. В возрасте 2 лет была проведена клиническая инвентаризационная оценка развития нервной системы методикой Battelle, которая оценивает адаптивные, личностно-социальные, коммуникативные, двигательные и когнитивные навыки. Также были проведены ультразвуковое исследование органов малого таза у девочки, флуоресцентная гибридизация in situ (FISH), для определения качественных и количественных изменений хромосом, и FISH тестирование на мазках буккальных клеток. Полученные результаты показали, что у обоих детей не наблюдалось органной патологии, а антропометрические данные соответствовали возрастной норме. Незначительные отклонения проявлялись лишь в снижении навыков выразительной речи. В клетках периферической крови наблюдалось больше XX клеток, чем XY клеток, как у девочки, так и у мальчика. Данные показывают, что химеризм сохранялся, как минимум до двухлетнего возраста. В 2009 г. Parva M. et al. [54] сообщили о тризиготной беременности, зачатой в результате ЭКО. Двое плодов являлись монохориальной диамниотической двойней. FISH тестирование амниотической жидкости и пуповинной крови показали наличие XX и XY клеток у обоих близнецов при развитии нормальных наружных и внутренних половых органов. Поскольку химеризм у монохориальных близнецов является недавно зарегистрированным феноменом, последствия для здоровья все еще неизвестны.
Заключение
ССЗРП является серьезным осложнением монохориальной беременности, поскольку связан не только с антенатальной гибелью плода с малой массой, но снижением качества жизни вплоть до инвалидности с детства выжившего близнеца. Представленные молекулярно-биологические механизмы возможного развития данного синдрома, помимо научного интереса, при более подробном изучении позволят найти «ключевые» молекулы, играющие роль в предикции, определяющие оптимальные сроки внутриутробных вмешательств, а также прогнозирующие состояние плодов после рождения.