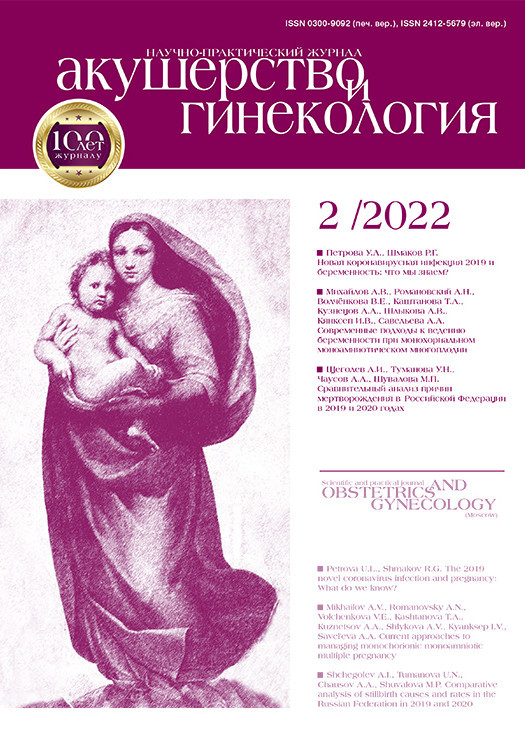Моноамниотические двойни являются результатом деления бластоцисты в период с 8-х по 13-е сутки после оплодотворения яйцеклетки и характеризуются формированием одного хориона и двух эмбрионов, развивающихся в единой амниотической полости. Частота моноамниотических двоен варьирует в зависимости от особенностей популяции и встречается в 1 случае на 10 000–25 000 – в 0,01% от спонтанно наступивших беременностей до 1% – от числа всех многоплодных беременностей и в 5% – от всех монохориальных двоен [1–3]. Вынашивание моноамниотического многоплодия сочетается с высокой частотой антенатальной гибели плодов и перинатальной смертности, достигающей 30–70% [4, 5]. В последние годы частота перинатальных потерь при моноамниотическом многоплодии имеет тенденцию к снижению до 3,3–12%, благодаря внедрению динамического ультразвукового наблюдения и досрочного планового родоразрешения [5–7]. Высокие показатели перинатальной смертности и заболеваемости при моноамниотических двойнях обусловлены не только ранними преждевременными родами и специфическими осложнениями, общими для всех монохориальных двоен, такими как фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС), синдром обратной артериальной перфузии, селективный синдром замедления роста плода, но и значительной частотой врожденных аномалий развития, достигающей 7–28%, включая феномен неразделившихся близнецов [4–9]. Коллизия пуповин плодов, имеющая место только при моноамниотическом многоплодии до 24 недель беременности, по данным разных авторов, в 11,4–50% случаев является причиной гибели одного или обоих плодов [4, 10, 11].
Ранняя диагностика моноамниотического многоплодия возможна уже в период комбинированного пренатального скрининга в конце I триместра беременности, что имеет важнейшее значение для определения оптимальной тактики ее дальнейшего ведения и всестороннего пренатального консультирования родителей. Rodis et al. предложили ультразвуковые диагностические критерии для моноамниотических двоен – единая плацента, одинаковый пол обоих плодов, отсутствие межамниотической перегородки, одинаковое количество амниотической жидкости вокруг каждого плода и свободное перемещение обоих плодов в амниотической полости [12]. В I триместре беременности выявление единственного желточного мешка при наличии двух эмбрионов позволяет заподозрить наличие моноамниотической двойни, поскольку четкая визуализация этой эмбриональной структуры обычно становится возможной ранее, чем четкая визуализация межамниотической мембраны. Цветовое допплеровское картирование и 3D-моделирование позволяют повысить точность установления моноамниотического многоплодия при визуализации близкого расположения мест отхождения пуповин плодов от плаценты и формирования их переплетений и истинных узлов [12, 13]. При проведении ультразвукового исследования во II триместре беременности моноамниотические двойни необходимо дифференцировать с ангидрамнионом при так называемом феномене «плода в коконе» («cocoon-sign» или «stuck-twin») при ФФТС. Такой плод сохраняет свое фиксированное к стенке матки расположение независимо от изменений положения тела матери; при этом современные приборы с высоким разрешением позволяют визуализировать межамниотическую мембрану в области мелких частей и лица плода даже при ангидрамнионе. В редких случаях исходного монохориального диамниотического многоплодия возможно формирование псевдомоноамниотических двоен вследствие спонтанного разрыва межамниотической мембраны. Однако чаще нарушение целостности и разрывы последней связаны с проведением внутриматочных диагностических или лечебных вмешательств, таких как амниоцентез, кордоцентез, фетоскопия и лазерная коагуляция анастомозов плаценты при ФФТС. Перинатальная смертность при развитии псевдомоноамниотической беременности также высока, как и при истинных моноамниотических двойнях [14, 15].
В первой половине беременности при моноамниотических двойнях высокая частота гибели плодов связана как с коллизиями пуповин плодов, так и с врожденными аномалиями их развития. Аномалии развития у плодов чаще имеют место среди монозиготных двоен по сравнению с дизиготными; при этом частота их выявления при монохориальном многоплодии в 2,5 раза выше, чем при дихориальном. Однако по аномалиям развития, которые не имеют ассоциации с хромосомными аберрациями, близнецы обычно дискордантны [16]. Частота выявления врожденных аномалий развития у плодов при моноамниотических двойнях достигает 20–30%; при этом более чем у трети из них имеют место разнообразные нарушения формирования сердца у одного или обоих плодов, которые встречаются в 9 раз чаще (до 57,1% случаев), чем при одноплодной беременности [2, 17]. На втором месте по частоте выявления стоят аномалии центральной нервной системы – в основном нарушения строения структур головного мозга [18].
Уникальным нарушением развития плодов при моноамниотическом многоплодии является феномен неразделившихся («сиамских») близнецов – эмбрионов, не разделившихся какой-либо частью тела в результате неполного деления эмбрионального диска после 13-го дня с момента оплодотворения. Термин «сросшиеся» близнецы является некорректным, поскольку основной патогенетической причиной является нарушение полного разделения эмбрионов, а не их сращение. Частота возникновения неразделившихся близнецов составляет до 1% от монозиготных двоен, или 0,5–3 случая на 50 000–100 000 родов; частота живорождения при этой патологии развития ниже и составляет до 5 случаев на 1 000 000 родов [12, 14, 19]. Среди неразделившихся близнецов плоды женского пола встречаются в 3 раза чаще, чем мужского. Неразделившиеся двойни классифицируют по области неразделения с добавлением суффикса «паги». Вентральное неразделение эмбрионов встречается в 87%, среди которого наиболее частые варианты – торакопаги (19–74%), цефалопаги (11%), омфалопаги (10–33%), парапаги (28%) и ишиопаги (6–11%). Дорсальное неразделение составляет 13% – краниопаги (1–6 %), пигопаги (6–18%) и рахиопаги (2%) [12, 14].
Ультразвуковая диагностика наличия неразделившихся близнецов также возможна в I триместре, и основным ее критерием является наличие единого конгломерата эмбриональных частей и отсутствие возможности отдельной визуализации даже в периоды их двигательной активности. Дополнительными ультразвуковыми признаками могут являться V- или Y-образный вид тел эмбрионов, более трех сосудов пуповины, близкое постоянное расположение конечностей, постоянное положение тел плодов на одном уровне, независимо от наружной стимуляции или изменения положения тела матери, наличие единственного сердца [12, 14]. При ультразвуковом исследовании в 19–22 недели беременности обязательным является тщательное исследование анатомии обоих плодов из неразделившейся двойни с целью исключения сопутствующих аномалий развития внутренних органов, в особенности сердца, что имеет важнейшее значение для пренатального консультирования родителей и выбора дальнейшей тактики ведения беременности. При выявлении неразделившейся двойни до достижения срока жизнеспособности правомерна постановка вопроса о целесообразности дальнейшего вынашивания беременности. Несмотря на достижения неонатальной хирургии, благоприятный исход операций по разделению плодов с общими внутренними органами, такими, как сердце или головной мозг, крайне сомнителен [12].
В случаях принятия родителями решения о продолжении вынашивания беременности, основной задачей становится достижение максимально близкого к доношенному сроку беременности, необходимого для хирургической коррекции и последующего выживания близнецов при обеспечении минимальных рисков в отношении здоровья матери. Более чем в половине случаев беременность при неразделившейся двойне осложняется выраженным многоводием, что может потребовать выполнения серийных амниоредукций с целью снижения рисков преждевременного излития околоплодных вод и развития родовой деятельности [12]. После достижения срока беременности 32–34 недели рекомендуют обсудить время и возможные особенности оперативного абдоминального родоразрешения [20].
Возможность постнатального выживания при неразделившейся двойне во многом определяется областью неразделения и вовлеченностью в неразделение внутренних органов плодов. Лишь 46% неразделившихся близнецов рождаются живыми, при этом более половины из них погибают вскоре после рождения [21]. Так, при экстренных операциях по разделению плодов в случае, когда состояние одного близнеца угрожает жизни другого, выживаемость плодов не превышает 30–50% [12]. При возможности стабилизации состояния новорожденных и последующих плановых оперативных вмешательствах по разделению новорожденных частота их выживаемости может достигать 80–90% [12].
Помимо врожденных аномалий развития, значительный вклад в перинатальные потери при моноамниотических двойнях вносят специфические для монохориального многоплодия осложнения, связанные с наличием васкулярных анастомозов в общей для двух плодов плаценте – ФФТС, синдром анемии-полицитемии, а также синдром обратной артериальной перфузии. Частота развития ФФТС при моноамниотической двойне ниже, чем при монохориальной диамниотической, и составляет 2–6%, что объясняется протективным действием часто имеющих место значимых артерио-артериальных анастомозов [2, 6–8, 17, 22, 23]. Применение критериев Quintero при диагностике ФФТС при моноамниотических двойнях затруднено [24]. В соответствии с рекомендациями ISUOG [25] ультразвуковой скрининг ФФТС начинают с 16 недель беременности с повторными исследованиями каждые 2 недели. При моноамниотических двойнях основное внимание рекомендовано уделять общему количеству околоплодных вод, визуализации и изменению в динамике размеров мочевых пузырей обоих плодов, оценке кровотока в артерии пуповины, венозном протоке, измерении максимальной систолической скорости в средней мозговой артерии, а также появлению признаков нарушения внутрисердечной гемодинамики в виде трикуспидальной регургитации, а также признакам отека тканей одного из плодов [16, 24, 26]. В случае развития ФФТС при моноамниотической двойне методом выбора является выполнение фетоскопической лазерной коагуляции анастомозов плаценты. Выживаемость плодов при использовании данной методики при моноамниотическом многоплодии не отличается от таковой при монохориальных диамниотических двойнях и составляет, по данным S. Peeters, 78% [8]. Помимо ФФТС, возможно развитие и спонтанного синдрома анемии-полицитемии, который также может требовать коррекции с применением фетоскопической лазерной коагуляции анастомозов [27, 28]. Течение и перинатальные исходы при синдроме обратной артериальной перфузии при моноамниотическом многоплодии также имеют свои особенности. Близкое расположение мест выхода пуповин из плаценты перфузируемого плода и плода-помпы при отсутствии межамниотической мембраны в абсолютном большинстве случаев приводит к формированию коллизии пуповин и обусловливает высокую частоту перинатальных потерь плода-помпы [29]. В целях коррекции этого осложнения при сроке до 16–18 недель необходимо выполнение коагуляции пуповины плода-акардиуса с обязательным последующим ее пересечением, что позволяет достичь перинатальной выживаемости в 74–90% [8, 30].
При наличии дискордантных летальных аномалий развития и/или критической диссоциации роста плодов возможно применение селективного фетоцида при помощи методов фетальной хирургии. Методом выбора для выполнения фетоцида считается биполярная коагуляция сосудов пуповины с последующим обязательным ее пересечением в целях предотвращения критических нарушений гемодинамики у продолжающего свое развитие плода вследствие формирования узла с коагулированной пуповиной второго плода. Фетоцид путем селективной коагуляции сосудов плаценты, принадлежащих скомпрометированному плоду, по сравнению с биполярной коагуляцией его пуповины сопровождается худшими перинатальными исходами, так как ее выполнение не исключает риск коллизии пуповин и последующей гибели и здорового плода [8, 24].
Как основные причины перинатальной смертности при моноамниотических двойнях рассматриваются коллизия и/или образование истинных узлов пуповин плодов, приводящих к острому нарушению кровотока в их артериях и венах. Формирование узлов или переплетения пуповин плодов, связанное с близким расположением мест отхождения пуповин от плаценты и большой подвижностью плодов в единой амниотической полости, может возникать на ранних сроках беременности, и уже к 12 неделям беременности диагностируется в 42–95% [7, 16, 18, 30–33]. Частота формирования истинных узлов при коллизии пуповин в настоящее время четко не определена. Считается, что коллизии пуповин в той или иной степени присутствуют фактически во всех случаях моноамниотических двоен, однако они лишь в части случаев приводят к антенатальным потерям [10, 16]. Вероятно, острое нарушение плодово-плацентарной гемодинамики при истинном формировании узлов предотвращают протективный эффект вартонова студня и резистентность сосудов пуповины к внешней компрессии [16]. Изолированное выявление коллизии пуповин или даже наличие истинных узлов пуповины без признаков ухудшения плодово-плацентарной гемодинамики не требует экстренного родоразрешения и не ухудшает перинатальных исходов [10]. При исключении из причин пренатальной смертности гибели плодов вследствие врожденных аномалий, ФФТС, синдрома обратной артериальной перфузии, неразделившихся близнецов и спонтанного невынашивания до 22 недель беременности, частота антенатальных потерь при моноамниотических двойнях во второй половине беременности достигает лишь 5–10 % [7, 31–33].
В настоящее время продолжается обсуждение оптимальной стратегии антенатального наблюдения пациенток при моноамниотическом многоплодии. В целях снижения перинатальных потерь рекомендуют динамическое наблюдение подобных пациенток каждые 2 недели, начиная с 16 недель беременности, в условиях специализированных центров. В нескольких исследованиях показано улучшение перинатальных исходов при моноамниотическом многоплодии при непрерывном стационарном наблюдении во второй половине беременности [24], при динамическом допплерометрическом и кардиотокографическом контроле состояния плодов 2–3 раза в неделю с 26–28-й недели беременности вплоть до родоразрешения [10, 12, 21]. Однако в других исследованиях различий в перинатальных исходах при амбулаторном и стационарном наблюдении выявлено не было [7]. До настоящего времени однозначно не определено, какая антенатальная практика может позволить предотвратить антенатальные потери, связанные с нарушением кровотока в сосудах пуповин вследствие их коллизий или затягивания истинных узлов [34, 35].
В целях ограничения двигательной активности плодов в полости матки была предложена методика медикаментозной амниоредукции путем назначения беременной нестероидного противовоспалительного препарата сулиндак, который после прохождения маточно-плацентарного барьера и попадания в системный кровоток плодов вызывает снижение у них мочепродукции при отсутствии воздействия на функцию артериального протока. Предполагается, что ограничение двигательной активности плодов ввиду развития медикаментозного маловодия после 24–27 недель беременности может снизить риск затягивания узлов пуповин и развития критических нарушений гемодинамики плодов. Однако однозначных доказательств эффективности подобной практики для того, чтобы рекомендовать ее для рутинного применения, еще не получено [12].
Учитывая вышеизложенное, при консультировании родителей следует акцентировать их внимание на том, что при наблюдении моноамниотических беременностей отсутствие ультразвуковых и кардиотокографических нарушений в состоянии плодов не позволяет исключить непредсказуемые перинатальные потери [7].
Ввиду отсутствия высокоспецифичных методов выявления маркеров нарушений плодово-плацентарной гемодинамики вследствие коллизий пуповин подход к времени проведения курса антенатальной профилактики респираторного дистресс-синдрома плода продолжает обсуждаться в контексте оптимального времени родоразрешения при моноамниотическом многоплодии. В ряде клиник первый профилактический курс глюкокортикоидов назначают уже по достижении 24 недель беременности, предполагая высокую вероятность экстренного оперативного родоразрешения вследствие ухудшения состояния плодово-плацентарной гемодинамики или преждевременного развития родовой деятельности. Однако подобный подход подразумевает необходимость проведения повторных курсов, так как эффективность антенатальной профилактики респираторного дистресс-синдрома оптимальна лишь при его проведении в периоде 7 суток до родоразрешения [5].
Однозначно сформировать представление об оптимальных сроках родоразрешения пациенток при неосложненном течении моноамниотических двоен представляется затруднительным ввиду отсутствия по настоящее время результатов рандомизированных контролируемых исследований. Учитывая потенциальные риски антенатальных потерь в III триместре беременности, большинство рекомендуют плановое оперативное родоразрешение после 32-й недели беременности при предварительном проведении курса антенатальной профилактики респираторного дистресс-синдрома плода [1, 2, 9, 16, 31]. В современных условиях специализированных центров ближайшие неонатальные исходы при такой тактике относительно благоприятны, и младенческая смертность составляет менее 1%; однако частота клинически выраженного респираторного дистресс-синдрома новорожденных достигает 5% даже при использовании сурфактанта, что может влиять на последующее развитие новорожденных [9, 36–39]. Частота антенатальных потерь при неосложненном течении моноамниотической двойни после 32 недель варьирует от 2,2 до 21,9% [2, 3, 7, 18, 40]. Значительные различия этих величин объясняются гетерогенностью включенных данных, в которые вошли беременные с врожденными аномалиями развития плодов, а также с поздним проявлением ФФТС. В ряде относительно недавних исследований частота антенатальной гибели плодов составляет 1% при сроке беременности до 31–32-й недели и 2% – при ее пролонгировании до 33–34 недель [12, 16, 31]. Van Mieghem et al. определили оптимальный срок родоразрешения в 32 4/7 недели, после которого риск перинатальных потерь, по их мнению, превышает риск неонатальной заболеваемости [31]. Тем не менее ряд работ показал отсутствие антенатальных потерь при условии постоянного динамического наблюдения и при продолжении беременности более 32 недель [3, 19].
Общепринятым методом родоразрешения моноамниотических двоен является кесарево сечение с целью предотвращения в родах критических коллизий пуповин плодов, нарушения гемодинамики в сосудах пуповины или развития острого ФФТС на фоне родовой деятельности [35, 38, 39, 41–44]. При этом в ряде работ не исключается возможность успешного рождения моноамниотических двоен через естественные родовые пути, частота которого достигала 40–81% [3].
Заключение
Несмотря на значительный интерес исследователей в последние 20 лет к разработке методов оптимального ведения моноамниотической беременности, многие его аспекты остаются дискуссионными. Не вызывает сомнения, что моноамниотические двойни относятся к беременности крайне высокого риска, что обуславливает необходимость их динамического наблюдения для своевременной диагностики и коррекции возможных осложнений. Однако для установления оптимального протокола динамического наблюдения моноамниотических двоен во второй половине беременности в целях минимизации антенатальной смертности и неонатальной заболеваемости, определения принципов организации его амбулаторного и/или стационарного осуществления до достижения оптимального срока родоразрешения, необходима организация многоцентровых, желательно рандомизированных исследований.