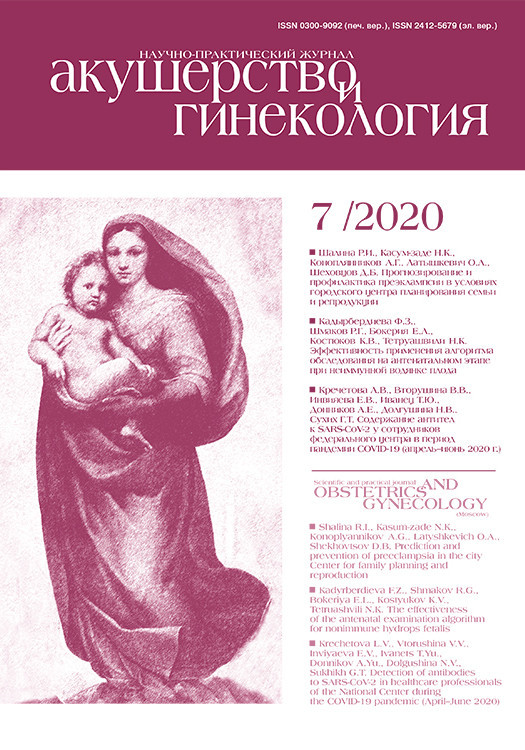Миома матки – одна из самых распространенных доброкачественных опухолей органов репродуктивной системы женщин разного возраста. Известно, что, несмотря на их высокую частоту [1], клинические проявления наблюдаются лишь у 40% женщин старше 40 лет [2]. У пациенток с наличием клинических проявлений миомы применяются как медикаментозные, так и хирургические методы лечения. В настоящее время не существует консервативных методик, способных полностью избавить пациентку от миомы матки; по этой причине часто гинекологи склоняются в пользу оперативного лечения. Хирургическое лечение чаще всего осуществляется с использованием мини-инвазивных технологий [3, 4] и с применением морцелляции миоматозных узлов [5]. Повышение частоты использования лапароскопии и морцелляции обусловлено низкой интраоперационной кровопотерей, принципами fast-track-хирургии: сокращением сроков пребывания в стационаре и ускорением сроков выздоровления [6–8]. Другие варианты извлечения макропрепаратов, такие как кольпотомический разрез или мини-лапаротомия, становятся менее популярными [9].
Известно, что фрагментация миоматозных узлов с помощью морцеллятора может потенцировать образование паразитарной миомы (морцелломы) в результате перитонеального обсеменения тканями лейомиомы, которое в отсутствие обнаружения во время операции может разрастись до образования паразитарных лейомиом [9–11]. Данную патологию можно считать поздним осложнением лапароскопической миомэктомии [12]. По данным литературы, частота обнаружения морцеллом варьирует от 0,2 до 1,25% [5, 13, 14]. В связи с чем следует привлечь большее внимание к данной патологии.
Описание клинического наблюдения
Под нашим наблюдением в гинекологическом отделении Российского геронтологического клинико-диагностического центра на кафедре акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова находилась пациентка А., 49 лет, которая поступила в стационар для планового оперативного лечения с предварительным диагнозом «Опухоль забрюшинной локализации». Учитывая анамнестические данные о проведенной лапароскопической ампутации матки с последующей морцелляцией, отсутствии органной принадлежности настоящей опухоли, консилиумом экспертов высказано предположение о возможном развитии паразитарной миомы. Ранее пациентка была обследована и консультирована специалистами нескольких профилей, после чего принято решение об оперативном лечении в плановом порядке.
При поступлении пациентка А. жаловалась на незначительные тянущие боли внизу живота периодического характера, чувство дискомфорта в области малого таза, запоры. Пациентка впервые отметила появление вышеуказанных жалоб около 18 месяцев назад с тенденцией к прогрессированию симптомов, что и послужило причиной обращения к специалистам: гинекологу и хирургу.
История настоящего заболевания. Миома матки впервые была выявлена в 2007 г. в возрасте 38 лет. У гинеколога наблюдалась нерегулярно. Менструальный цикл с тенденцией к обильным менструальным кровотечениям. В 2008 г., 2010 г. проводились гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание по поводу аномального маточного кровотечения репродуктивного возраста. По результатам гистологического исследования в обоих случаях обнаружены фрагменты эндометрия с картиной железистой гиперплазии, кистозной трансформацией отдельных желез, клетки лейомиомы. Получала гестагены в циклическом режиме в течение 6 месяцев. В 2011 г. в возрасте 43 лет при профилактическом осмотре у гинеколога по данным ультразвукового исследования малого таза выявлена множественная миома матки размерами 8–9 недель условной беременности с центрипетальным ростом одного из узлов. Учитывая клиническую картину обильных менструальных кровотечений, приводящих ко вторичной железодефицитной анемии со снижением гемоглобина в анамнезе до 89 г/л, пациентке было рекомендовано оперативное лечение. После тщательного обследования шейки матки в 2011 г. выполнена лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки с маточными трубами с иссечением слизистой цервикального канала. Гистологическое исследование миоматозных узлов выявило переплетающиеся пучки гладкомышечных клеток с эозинофильной цитоплазмой, мономорфными ядрами и отсутствием митозов, с единичными участками гиалиноза и склероза.
В хирургическом анамнезе данной пациентки – аппендэктомия в 2005 г. без осложнений, тотальная струмэктомия в 2017 г.
Соматически пациентка была отягощена наличием гипертонической болезни 2 стадии, 2 степени, риск сердечно-сосудистых осложнений 3, послеоперационным гипотиреозом. Коррекция соматической патологии проводилась кардиологом и эндокринологом.
Акушерско-гинекологический анамнез сообщает о 5 беременностях, которые закончились 2 своевременными родами и тремя артифициальными абортами; без осложнений. Из гинекологического анамнеза – менструации с 13 лет, по 5–6 дней, через 28–29 дней, регулярные, безболезненные, обильные. Хирургическая постменопауза с 2011 г. (8 лет). Половая жизнь с 20 лет, в браке. Контрацепция coitus interruptus. Среди гинекологических заболеваний – миома матки с 2007 г.
Физикальное обследование. Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы нормальной окраски. Видимые слизистые чистые, лимфатические узлы не увеличены. Рост 160 см. Вес 74 кг. Органы дыхания: дыхание ровное, аускультативно везикулярное, проводится над всеми участками грудной клетки, хрипов нет. Система кровообращения: тоны сердца приглушены, шумы не выслушиваются. АД 135/85 мм рт. ст. Живот симметричной формы, не увеличен, при поверхностной пальпации мягкий, слегка безболезненный при глубокой пальпации, перитонеальные симптомы отрицательные. Стул нерегулярный, склонность к хроническим запорам. Мочевыделительная система: симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.
Гинекологический осмотр. Наружные половые органы развиты правильно. Осмотр при помощи зеркал: культя шейки матки визуально не изменена, слизистая бледно-розового цвета. При влагалищно-абдоминальном исследовании: культя шейки матки плотная, подвижная, безболезненная, область придатков без особенностей с обеих сторон. Слева и кзади от культи пальпируется округлое, подвижное образование, смещаемое относительно культи шейки матки и прямой кишки, диаметром 12 см, несколько чувствительное при пальпации. Свод слева выполнен данным образованием. Выделения из половых путей: скудные бели.
Ультразвуковое исследование органов малого таза выявило гипоэхогенное образование слоистой структуры с резкой поперечной исчерченностью, с четкими контурами, за которым отмечается акустический эффект ослабления, локализующееся в области левой подвздошной ямки, размерами до 11,8×11,0×10,8 см. При цветовом допплеровском картировании регистрировался немозаичный кровоток по периферии опухоли. При магнитно-резонансной томографии брюшной полости и малого таза диагностировано образование с ровными, четкими контурами, неоднородной структуры, размерами 11,7×10,1×10,5 см, которое оттесняет культю шейки матки кпереди и медиально вправо. Культя шейки матки без структурных изменений, анатомической или сосудистой связи с данным образованием не прослеживается. Правый яичник размерами 1,8×1,3×1,1 см, содержит единичные фолликулы; левый яичник размерами 2,6×2,5×1,5 см с фолликулом до 1,4 см.
С высокой онкологической настороженностью проведено клинико-лабораторное дообследование, включающее эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, определение онкомаркеров, патологических изменений выявлено не было. С клиническим диагнозом: опухоль малого таза забрюшинной локализации, подозрение на паразитарную миому в октябре 2018 г. было проведено плановое оперативное лечение в объеме нижнесрединной лапаротомии, экстирпации культи шейки матки, удаления забрюшинного узла миомы. Интраоперационно в левой пахово-подвздошной области за париетальной брюшиной визуализировался полюс округлого, плотного образования, ограниченно подвижного, достигающего 12 см в диаметре. Связи с культей шейки матки не выявлено. Операция выполнена без технических трудностей, опухоль вылущена из забрюшинной клетчатки, основной питающий сосуд исходил из париетальной брюшины. Кровопотеря составила 400 мл. Макропрепарат без четко выраженной капсулы, на разрезе типичного грубоволокнистого строения. С целью исключения злокачественного потенциала опухоли выполнено интраоперационное экспресс-гистологическое исследование, которое позже подтверждено плановой морфологической верификацией. По результатам данного исследования диагностирован хронический слабоактивный цервицит культи шейки матки: ткань культи шейки матки состоит из гладкомышечных клеток, обрывков цилиндрического эпителия с лейкоцитарной очаговой инфильтрацией и примесью нейтрофилов. Опухоль, извлеченная из забрюшинной клетчатки, представлена гладкомышечными клетками с мономорфными ядрами, выраженным гиалинозом с замещением клеточных элементов, единичными очагами некроза с перифокальной воспалительной инфильтрацией, умеренным количеством соединительнотканных элементов, что соответствует морфологической картине фибролейомиомы без признаков органоспецифичности, с вторичными дистрофическими изменениями.
На основании анамнеза, клинической, интраоперационной картины и результатов гистологического исследования выставлен клинический диагноз: Паразитарная миома с забрюшинной локализацией узла.
Послеоперационный период протекал гладко, проводились инфузионная, антибактериальная, антианемическая терапия, симптоматическая терапия, адекватное обезболивание, профилактика тромбоэмболических осложнений. Пациентка была выписана из стационара на 5-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии.
При контрольном осмотре через месяц после оперативного лечения жалоб пациентка не предъявляла. При влагалищно-абдоминальном исследовании и ультразвуковом исследовании органов малого таза патологических изменений в малом тазу выявлено не было. Через 6 месяцев и через год контрольные осмотры также не выявили патологических образований ни в брюшной полости, ни в малом тазу.
Обсуждение
Несмотря на благоприятный исход вышеописанного клинического наблюдения, необходимо отметить, что каждый клинический случай сложен в диагностике, интересен и требует изучения. Клиническая картина довольно неспецифична и зависит от локализации опухоли: малый таз, брюшина малого таза и брюшной полости, тонкий кишечник, прямая кишка, слепая кишка, культя шейки матки и места лапароскопических пункций [11, 14]. У большинства пациенток отмечается бессимптомное течение, а обнаружение паразитарной миомы является случайной находкой во время различных диагностических мероприятий [9, 13]. При наличии же симптомов наиболее распространенными будут боли в области живота и таза, связанные со сдавлением опухолью близлежащих органов, возможно, вздутие живота и вагинальное кровотечение [12, 13].
Отсутствие явных симптомов у описанной пациентки со стороны мочевыделительной системы (дизурия, затруднение мочеиспускания) и желудочно-кишечного тракта (боли в области кишечника), возможно, способствовало позднему обращению к специалистам.
Учитывая неспецифические клинические симптомы, нет конкретного списка диагностических мероприятий для диагностики паразитарных миом. Вопрос лечения включает в себя удаление паразитарной миомы лапароскопическим или лапаротомным доступом, особенно в случаях большого размера или подозрения на злокачественность. Нашей пациентке была выполнена лапаротомия, учитывая забрюшинную локализацию опухоли, отсутствие понимания органопринадлежности и высокую онкологическую настороженность. При необходимости следует применять мультидисциплинарный подход, особенно когда паразитарная миома находится вблизи других органов [12].
Мировое сообщество хирургов активно обсуждает проблему морцелляции узлов миомы. Для снижения риска развития паразитарных лейомиом после морцелляции существуют различные методики, которых следует придерживаться [1, 7, 8, 10]. Морцелляция может быть выполнена в защитном мешке (endobag), что снижает распространение фрагментов удаляемых тканей. Однако при малейшем подозрении на саркому морцелляции следует избегать. Крупные образцы могут быть извлечены из брюшной полости с помощью кольпотомии или мини-лапаротомии. Кроме того, необходимо проводить тщательную ревизию брюшной полости и малого таза после морцелляции во избежание оставления фрагментов миомы [13, 15, 16], хотя и этого может быть недостаточно для удаления всех фрагментов патологической ткани [17].
В настоящее время лапароскопическая миомэктомия и гистерэктомия становятся все более доступными [1, 2, 9]. Морцелляция активно применяется во время хирургического лечения [5, 6, 14]. Несмотря на хорошие исходы пациентов после малоинвазивной хирургии, следует соблюдать осторожность для предотвращения обсеменения фрагментами миоматозных узлов брюшной полости и малого таза при удалении опухолей [18, 19]. Обнаружение морцеллом как отдаленных осложнений лапароскопических миом- и гистерэктомий, сегодня уже не является уникальной находкой. В современной литературе большая часть публикаций, посвященных паразитарным миомам, является описанием клинических случаев. При этом механизмы возникновения блуждающих миом не изучены. Основным этиологическим фактором данного явления является морцелляция, при которой образовавшиеся мелкие фрагменты миомы остаются в брюшной полости и имплантируются при наличии благоприятных условий для адгезии и дальнейшей клеточной пролиферации, что приводит к их последующему росту [9, 10, 20].
Заключение
Возможность формирования морцеллом предполагает необходимость проведения исследований патогенетических механизмов возникновения паразитарных миом, а также разработки клинических рекомендаций и протоколов по профилактике данной патологии. Таким образом, представленное клиническое наблюдение является попыткой привлечения внимания к решению данных вопросов и поиска ответов к ним.