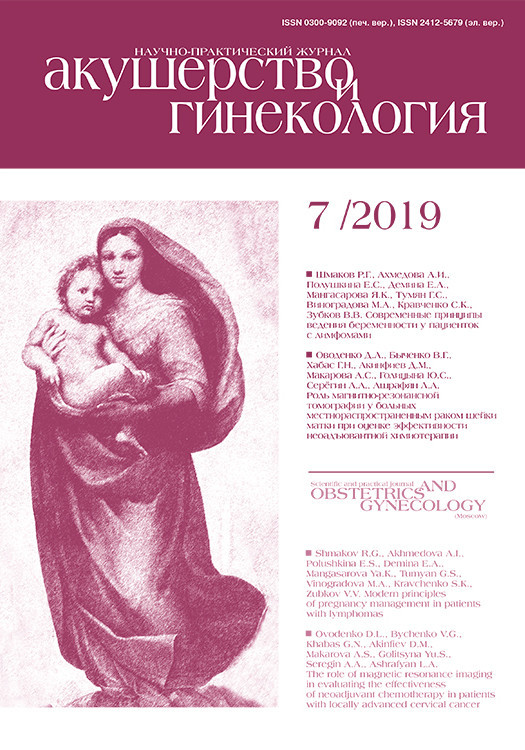Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – наиболее частая форма эндокринопатий у женщин репродуктивного возраста, манифестирующая клинической и биохимической гиперандрогенией (ГА), хронической ановуляцией, нарушением ритма менструации, бесплодием, мультикистозной трансформацией и увеличением объемов яичников [1, 2]. В настоящее время СПКЯ рассматривают как метаболический репродуктивный синдром, при этом частота дислипидемий достигает 60–70%, гиперинсулинемии (ГИ) – 50–60%, нарушения толерантности к глюкозе (НТГ) – 20–30% [3]. Это ставит вопрос о необходимости соблюдения терапевтического баланса пользы и рисков гормонотерапии [4]. Согласно международным и многочисленным национальным руководствам, препаратами 1-й линии для лечения СПКЯ у женщин, не планирующих беременность, принято считать комбинированные оральные контрацептивы (КОК) [5, 6]. Большинство авторов едины во мнении, что выбор эстроген-гестагенного препарата с целью регуляции ритма менструации и лечения симптомов ГА не зависит от типа используемого контрацептива. Это, возможно, объясняется отсутствием многоцентровых сравнительных исследований с использованием КОК, в состав которых входят приближенные к натуральным эстрогены. Терапевтический эффект КОК опосредуется не только подавлением выброса гонадотропин-рилизинг- гормона, секреции лютеинизирующего гормона (ЛГ), синтеза андрогенов в яичниках и надпочечниках, но и повышением продукции в печени полового стероид-связывающего глобулина (ПССГ), в результате чего снижается биодоступность тестостерона (Т) [7, 8]. Степень выраженности антиандрогенного действия КОК во многом определяется входящим в их состав прогестагенным компонентом. Ряд прогестагенов, таких как ципротерона ацетат (ЦПА) и дроспиренон (ДРСП), обладают также способностью ингибировать активность 5-α-редуктазы и конкурентно связываться с рецепторами андрогенов, что усиливает антиандрогенное действие. Результатами ранее проведенных исследований показано, что наибольшей антиандрогенной активностью обладает ЦПА [9]. Однако, согласно международным рекомендациям 2018 г., КОК, имеющие в своем составе ЦПА, не следует применять как препараты 1-й линии терапии ввиду побочных эффектов, к числу которых относятся усугубление или возникновение метаболических нарушений, повышение тромботических рисков [6]. Необходимость длительной коррекции клинической и биохимической ГА при СПКЯ [10] указывает на важность выбора наиболее эффективных и безопасных КОК с учетом входящих в их состав эстрогенных и гестагенных компонентов.
Известно, что КОК не всегда «метаболически нейтральны»; некоторые из них могут отрицательно воздействовать на показатели липидного и углеводного обмена [11]. По имеющимся данным, ДРСП-содержащие КОК оказывают более благоприятный эффект на метаболический статус больных с СПКЯ по сравнению с ЦПА-хлормадинона ацетат-дезогестрел-содержащими препаратами [12]. Вместе с тем в литературе описаны случаи их негативного влияния на углеводный обмен в виде увеличения частоты ГИ [4]. Важно отметить также, что при СПКЯ увеличен риск тромботических осложнений, что связывают как с метаболическими нарушениями, так и с наличием наследственных тромбофилий, в частности с полиморфизмом гена ингибитора активатора плазминогена (PAI). Частота этого генетического дефекта, способствующего снижению процессов фибринолиза, среди больных с СПКЯ достигает 90% [13–15]. Длительный прием КОК способствует усугублению эндогенного гипофибринолиза, а также снижению концентрации естественных антикоагулянтов крови и повышению резистентности к активированному протеину С (АРС) [16–20]. Выраженность изменений в системе гемостаза, вызванных КОК, напрямую зависит от входящих в их состав эстрогенного и гестагенного компонентов.
Отсутствие сравнительных данных о влиянии КОК, содержащих синтетические эстрогены в сочетании с ДРСП и приближенные к натуральным эстрогены в сочетании с диеногестом (ДНГ), на андрогенный и метаболический профили больных с СПКЯ послужило основанием для проведения данной работы. Целью исследования явилась оценка влияния КОК, содержащих этинилэстрадиол (ЭЭ)/ДРСП и эстрадиола валерат (ЭВ)/ДНГ, на эндокринно-метаболические параметры больных с СПКЯ.
Материалы и методы
Исследование проведено на выборке из 100 женщин с СПКЯ. Критериями включения явились: возраст 18–35 лет, наличие СПКЯ, диагностированного в соответствии с Роттердамскими критериями [5], незаинтересованность в беременности на момент обращения, отсутствие гормональной терапии в течение 3 и более месяцев, предшествующих исследованию. Критерии исключения: сопутствующая эндокринная, тяжелая экстрагенитальная патология и противопоказания для приема КОК [21].
Всем пациенткам исходно и через 12 месяцев терапии проводили клинико-лабораторное обследование. Для определения степени выраженности гирсутизма использовали визуальную шкалу Ферримана–Голлвея (гирсутное число >8 расценивалось как гирсутизм) [22]. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался по формуле ИМТ=масса тела (кг)/рост2(м). Гормональный профиль оценивали на 2–3-й день собственного или индуцированного приемом прогестагенов менструального цикла. Сывороточные уровни антимюллерова гормона (АМГ), ЛГ, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), тиреотропного гормона (ТТГ), пролактина, тестостерона общего (Тобщ), тестостерона свободного (Тсв), андростендиона (А), дигидротестостерона (ДГТ), ПССГ, 17-оксипрогестерона определяли иммунохемилюминесцентным методом на автоматическом анализаторе Immulite 2000 (Siemens, USA). Индекс свободных андрогенов (ИСА) рассчитывался по формуле: ИСА=Тобщ (нмоль/л)/ПССГ (нмоль/л)×100. Двухчасовой глюкозотолерантный тест проводили с мониторингом секреции инсулина натощак и через 1 и 2 ч после углеводной нагрузки (75 г глюкозы). Липидный спектр крови оценивали по уровням общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП), коэффициенту атерогенности (КА) спектрофотометрическим методом. Инсулинорезистентность (ИР) диагностировали по индексу HOMA, рассчитанному по формуле: глюкоза натощак (ммоль/л)×инсулин натощак (мкЕд/мл)/22,5.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза проводили на 5–7-й день цикла на аппарате 2000 Toshiba SSA-240 (Япония) трансвагинальным конвексным датчиком 7,5 Мгц с определением объема яичников и подсчетом числа антральных фолликулов (ЧАФ) в объеме яичника.
Больные были разделены на 2 группы: 1-я (n=50) получала КОК, содержащий ЭВ 3 мг, ЭВ 2 мг + ДНГ 2 мг, ЭВ 2 мг + ДНГ 3 мг, ЭВ 1 мг (Клайра), 2-я (n=50) – КОК с 20 мкг ЭЭ + 3 мг ДРСП (Джес). Исследование было одобрено этическим комитетом, проведено на базе отделения гинекологической эндокринологии ФГБУ «НМИЦАГ им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России.
Эффективность терапии оценивали у 87 женщин. Выбыли из исследования 13 больных по причинам, не связанным с нежелательными эффектами КОК. Восемь женщин 1-й группы и 5 – 2-й группы были исключены ввиду низкой комплаентности.
Статистический анализ проводился с использованием программы SPSS (IBM Statistical Package for the Social Sciences, 21 версия). Все данные представлены как среднее арифметическое (М) и стандартное отклонение (SD), сравнение проводилось с помощью t-теста Стьюдента. Для сравнения групп по качественным признакам применялся двусторонний критерий Стьюдента (t-критерий), критерии Манна–Уитни и Вилкоксона. Cтатистически значимыми считались результаты при достижении уровня p<0,05.
Результаты
Пациентки обеих групп были сопоставимы по возрасту: в 1-й он составил 24,1 (2,8) года; во 2-й – 25,6 (2,1) года (p=0,13). Не было различий по массо-ростовым показателям – в 1-й группе ИМТ составил 20,6 (3,8) кг/м2; во 2-й – 21,4 (2,9) кг/м2 (p=0,1). Частота избыточной массы тела среди пациенток 1-й группы составила 8%, 2-й – 12% (p=0,16), ожирения – 2 и 2,5% соответственно (p=0,09). Пациентки обеих групп имели нарушения менструального цикла от олигоменореи (ОМ) – 90% (1-я группа) и 84% (2-я группа) до вторичной аменореи – 10 и 16% соответственно, p=0,28 и p=0,12.
Отмечено отсутствие существенных различий между группами по основным исходным гормональным и метаболическим характеристикам (таблица). Уровень АМГ варьировал от 6,0 до 23,3 нг/мл, при этом его значения у пациенток обеих групп были выше ранее установленных пороговых показателей для различных возрастных групп [23, 24]. Уровень ЛГ >10 мкЕд/мл отмечен у 1/3 пациенток обеих групп, а соотношение ЛГ/ФСГ >3 выявлено у 24% (12/50) женщин 1-й группы и 20% (10/50) – 2-й. Уровень пролактина и ТТГ у пациенток обеих групп не превышал референсные значения.

Клиническая ГА в виде гирсутизма выявлена у 48% (24/50) и 40% (20/50) пациенток 1-й и 2-й групп, в виде акне – у 16% (8/50) и 20% (10/50) соответственно. Биохимическая ГА установлена у 56% (28/50) и 50% (25/50) женщин 1-й и 2-й групп. Повышенный уровень Тобщ наблюдался у 38% (19/50) и 32% (16/50), Тсв – у 10% (5/50) и 12% (6/50), А – у 30%(15/50) и 26% (13/50) женщин 1-й и 2-й групп соответственно. Уровень ПССГ варьировал от 20,6 до 120 нмоль/л, его снижение (менее 50 нмоль/мл) наблюдалось у 50% в 1-й группе и 48% – во 2-й.
Как видно из таблицы, средние объемы яичников и ЧАФ в обеих группах превышали пороговые значения (10,0 см3, 12 фолликулов), установленные в качестве диагностических для СПКЯ, согласно Роттердамским критериям [5].
В соответствии с результатами исследования проведена стратификация по фенотипам синдрома. В 1-й группе классический фенотип А (ГА+ОМ+ ПКЯ) установлен у 26 (52%) больных, фенотип В (ГА+ОМ) – у 3 (6%), фенотип С (ГА+ПКЯ) – у 2 (4%), неандрогенный фенотип D (ОМ и ПКЯ) – у 19 (38%). Во 2-й группе фенотип А диагностирован у 29 (58%), фенотип В – у 1 (2%), фенотип С – у 2 (4%), фенотип D – у 24 (36%).
После 12 месяцев терапии выявлены различия между группами в динамике ряда клинических, гормональных и метаболических показателей. Улучшение состояния кожи в виде исчезновения или значительного снижения выраженности акне к 12 месяцу лечения отмечено у 62,5% (5/8) женщин в 1-й группе и у 80% (8/10) во 2-й группе (р=0,07). Уменьшение степени выраженности гирсутизма к 12-му месяцу терапии было отмечено у 42% (10/24) женщин 1-й группы и у 55% (11/20) – 2-й (р=0,12).
 Динамика основных гормональных параметров на фоне КОК представлена на рисунке 1. Так, на фоне проводимой терапии отмечено снижение среднего уровня ЛГ в 1-й группе на 40%, а во 2-й – на 48% (р=0,05). Коррекция биохимической ГА заключалась в снижении уровней Тобщ, Тсв и А. Средний уровень Тобщ в 1-й группе снизился на 17%, во 2-й – на 20%, а Тсв – на 19 и 29% соответственно, р=0,25 и р=0,08. На уровни А 12-месячный курс терапии тоже оказал влияние и продемонстрировал его снижение на 17% в 1-й группе и на 28% – во 2-й (р=0,09). Лечение КОК способствовало повышению уровня ПССГ. В 1-й группе его средний уровень увеличился в 2 раза, во 2-й – в 5,7 раза (р=0,04).
Динамика основных гормональных параметров на фоне КОК представлена на рисунке 1. Так, на фоне проводимой терапии отмечено снижение среднего уровня ЛГ в 1-й группе на 40%, а во 2-й – на 48% (р=0,05). Коррекция биохимической ГА заключалась в снижении уровней Тобщ, Тсв и А. Средний уровень Тобщ в 1-й группе снизился на 17%, во 2-й – на 20%, а Тсв – на 19 и 29% соответственно, р=0,25 и р=0,08. На уровни А 12-месячный курс терапии тоже оказал влияние и продемонстрировал его снижение на 17% в 1-й группе и на 28% – во 2-й (р=0,09). Лечение КОК способствовало повышению уровня ПССГ. В 1-й группе его средний уровень увеличился в 2 раза, во 2-й – в 5,7 раза (р=0,04).
После 12 месяцев терапии средний уровень АМГ в 1-й группе снизился на 44%, во 2-й – на 53% (р=0,12). При этом к 12-му месяцу терапии он по-прежнему не достиг нормативных значений.
 Терапия КОК в обеих группах не оказала существенного влияния на массу тела пациенток (рис. 2). ИМТ в 1-й группе до лечения составлял 20,6±3,8 кг/м2, после – 21,4±4,1 кг/м2, во 2-й – 21,4±2,9 кг/м2 и 22,04±2,2 кг/м2 соответственно, р=0,22 и р=0,54.
Терапия КОК в обеих группах не оказала существенного влияния на массу тела пациенток (рис. 2). ИМТ в 1-й группе до лечения составлял 20,6±3,8 кг/м2, после – 21,4±4,1 кг/м2, во 2-й – 21,4±2,9 кг/м2 и 22,04±2,2 кг/м2 соответственно, р=0,22 и р=0,54.
Воздействие КОК на метаболические параметры пациенток 1-й группы после окончания 12-месячного курса терапии проявилось в виде незначительного снижения частоты НТГ и ГИ – на 12% (5 пациенток) и на 14% (6) (рис. 2). Во 2-й группе лечение КОК привело к отсутствию существенных изменений показателей глюкозотолерантного теста; НТГ возникло дополнительно у 1 (2%) пациентки и ГИ – у 2 (4%).
Оценка липидного спектра крови показала статистически значимые различия между группами в степени повышения ТГ. Терапия КОК способствовала повышению его среднего уровня у пациенток 1-й группы на 16%, 2-й – на 29% (р=0,04). Несмотря на эту тенденцию, все показатели оставались при этом в пределах референсных значений. На фоне КОК отмечена некоторая тенденция к повышению средних уровней ЛПВП – на 4% у больных 1-й группы и на 10% – 2-й и снижению средних уровней ЛПНП на 3% и 2% соответственно, р=0,07 и р=0,44 (рис. 2). Средний уровень ХС оставался без существенных изменений на фоне терапии.
Как видно из таблицы, через 12 месяцев терапии объемы яичников, по данным УЗИ, уменьшились в обеих группах (р<0,001).
Нежелательные эффекты у пациенток 1-й группы проявлялись кровотечениями прорыва (6%), масталгией (5%), у пациенток 2-й группы – тошнотой (4%), головной болью (4%), кровотечениями прорыва (4%). Во всех случаях побочные эффекты не послужили поводом для отмены КОК.
Обсуждение
Согласно современным представлениям, СПКЯ принято рассматривать как метаболический репродуктивный синдром, являющийся фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Высокая частота метаболических нарушений у больных СПКЯ, разноречивость данных о влиянии КОК на чувствительность к инсулину и липидный спектр крови [25] послужили поводом для изучения эффекта КОК с различными типами эстрогенов и прогестагенов на метаболические параметры. Результаты проведенного исследования показали, что ЭЭ/ДРСП и ЭВ/ДНГ не оказывают негативного влияния на параметры углеводного обмена. После 12 месяцев терапии ЭЭ/ДРСП отмечено возникновение лишь 1 дополнительного случая НТГ и 2 – ГИ. Применение ЭВ/ДНГ привело к снижению частоты НТГ на 12% и ГИ – на 14%. В доступной литературе нами не найдены сравнительные исследования по влиянию этих видов КОК на метаболический и липидный профиль пациенток с СПКЯ. Однако ранее проведенные исследования показали менее выраженное влияние ЭЭ/ДРСП на углеводный обмен, в отличие от ЦПА-хлормадинона ацетат-содержащих КОК. Авторы объясняют это антиминералокортикоидным эффектом ДРСП [26]. Альдостерон может индуцировать ИР, тогда как ДРСП оказывает положительное воздействие на чувствительность тканей к инсулину [27]. 12-месячный прием КОК не оказал значительного влияния на показатели липидного профиля больных с СПКЯ, за исключением повышения среднего уровня ТГ на 29% на фоне ЭЭ/ДРСП и на 16% – на фоне ЭВ/ДНГ (р>0,05). При этом частота гипертриглицеридемии статистически значимо не превысила исходных значений. Вопрос о влияния КОК на ИМТ остается спорным [28]. Полученные данные свидетельствуют о том, что оба вида КОК не оказывают значительного влияния на ИМТ.
Результаты исследования показали, что 12-месячный курс терапии КОК способствует эффективному уменьшению клинической и коррекции биохимической ГА. Динамика Тобщ во время приема ЭВ/ДНГ и ЭЭ/ДРСП была схожей, средние его уровни снизились на 17 и 20%. Несмотря на то что терапия ЭЭ/ДРСП снизила средние уровни Тсв на 29% и А – на 28%, а терапия ЭВ/ДНГ – только на 19% и 17%, статистически значимых различий между группами выявлено не было. Отсутствие существенных различий в антиандрогенной активности, вероятно, можно объяснить как равнозначным влиянием препаратов на уровни ЛГ, так и схожим действием на активность 5α-редуктазы. Несмотря на отсутствие сравнительных исследований ДРСП-содержащих с ДНГ-содержащими КОК, его сопоставление с другими КОК, обладающими потенциальной антиандрогенной активностью, не выявило значительных преимуществ ДРСП в отношении снижения уровня андрогенов и выраженности гирсутизма [29].
Наиболее интересные, с нашей точки зрения, данные получены в отношении содержания в сыворотке крови ПССГ. Средний уровень ПССГ после 12 месяцев терапии ЭЭ/ДРСП повысился в 5,7 раза, после приема ЭВ/ДНГ – лишь в 2,2 раза. Выраженное повышение уровня ПССГ можно рассматривать как с позитивной стороны, поскольку он снижает биодоступность андрогенов, так и с негативной стороны – в связи с его влиянием на тромбогенный потенциал крови. Столь значительное различие в динамике ПССГ на фоне двух видов КОК можно объяснить более выраженным влиянием ЭЭ на синтез ПССГ, который, как известно, в большей степени потенцирует его повышение, по сравнению с эндогенным эстрадиолом. В свою очередь, прогестагены с антиандрогенной активностью, в отличие от таковых с андрогенной активностью, усугубляют эстроген-индуцированное повышение уровня ПССГ [30]. Рядом исследований продемонстрирована положительная корреляция ПССГ с индексом резистентности к АРС на фоне приема КОК [30]. Это косвенно свидетельствует о повышении тромбогенного потенциала крови. У женщин с регулярным ритмом менструаций АРС усиливает процессы фибринолиза за счет инактивации PAI-1. Повышение резистентности к АРС на фоне терапии ЭЭ/ДРСП может усиливать гипофибринолиз, способствуя повышению риска развития тромботических осложнений у больных с СПКЯ [31]. По данным литературы, ЭВ/ДНГ, в отличие от ЭЭ-содержащих КОК, обладает минимальным влиянием на прокоагулянтное и тромбоцитарное звено гемостаза, что подтверждается отсутствием изменений уровней фрагментов протромбина 1+2 и Д-димера [16]. Результаты широкомасштабного исследования INAS-SCORE (The International Active Surveillance study Safety of Contraceptives: Role of Estrogens) свидетельствуют о двукратном уменьшении частоты венозных тромбоэмболий и отсутствии различий в частоте артериальных тромбоэмболий на фоне приема ЭВ/ДНГ, по сравнению с другими КОК [32, 33]. Необходимо отметить, что в проведенном исследовании у больных с СПКЯ на фоне терапии КОК не было выявлено ни одного случая венозной тромбоэмболии.
Заключение
На основании результатов проведенного исследования можно сделать заключение, что 12-месячные курсы терапии ЭЭ/ДРСП и ЭВ/ДНГ эффективны для коррекции клинической и биохимической ГА у больных с СПКЯ. При отсутствии существенного влияния обоих видов КОК на атерогенный потенциал крови ЭВ/ДНГ способствует незначительному снижению частоты НТГ и ГИ. ЭЭ/ДРСП в единичных случаях вызывает ГИ и НТГ. Менее выраженное увеличение уровня ПССГ на фоне ЭВ/ДНГ может косвенно свидетельствовать о его более низком тромбогенном потенциале. Это важно учитывать при выборе длительной гормональной терапии СПКЯ – состояния, ассоциированного с риском сердечно-сосудистых осложнений. Полученные данные указывают на целесообразность дифференцированного подхода к выбору гормонотерапии. При исходных нарушениях углеводного обмена и/или липидного спектра крови, а также при наличии тромботических рисков (при отсутствии тромбофилий высокого риска) препаратом выбора может быть ЭВ/ДНГ, при отсутствии существенных метаболических нарушений и наличии более выраженной гиперандрогении следует отдавать предпочтение ЭЭ/ДРСП.