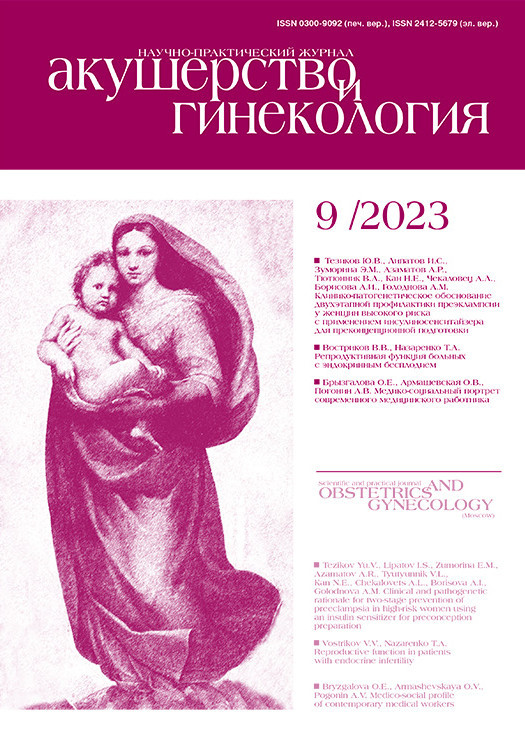Малоинвазивный лапароскопический доступ является золотым стандартом при оказании хирургической помощи пациенткам с доброкачественными и начальными стадиями злокачественных заболеваний органов малого таза. Именно он включен в протоколы ускоренного восстановления пациентов после операции (Enhanced Recovery After Surgery, ERAS) в связи с тем, что позволяет снизить уровень общего болевого синдрома и осуществить раннюю мобилизацию и выписку пациенток из стационара [1, 2]. Преимущество лапароскопии над лапаротомией в отношении боли в области послеоперационных ран не подлежит сомнению [3]. Однако лапароскопический доступ сопровождается специфическими болевыми ощущениями, обусловленными использованием пневмоперитонеума. В его структуру входит боль в области верхней части живота и поддиафрагмального пространства, а также боль в области плеча [4, 5]. Последняя имеет свое наименование и зачастую выделяется отдельно как «боль в плечелопаточной области после лапароскопии» [6]. В зарубежных источниках можно встретить такие формулировки, как «shoulder pain», «shoulder-tip pain» (STP), а также «post laparoscopic shoulder pain» (PLSP) [7, 8]. Исторически данный болевой синдром описывался, как характерное осложнение после лапароскопической холецистэктомии, в связи с чем его эпидемиология наиболее изучена именно при этом типе операций и находится в широких пределах между 35 и 80% случаев [4, 5, 9]. Параллельно шло наблюдение за пациентками после лапароскопических вмешательств на органах малого таза. Так, Riedel H.H., Semm K. опубликовали в 1980 г. исследование, проведенное с участием 200 пациенток, которым выполнялась диагностическая или оперативная лапароскопия на органах малого таза [10]. По результатам авторов, болевой синдром в день операции в поддиафрагмальной области отмечен у 18,5% пациенток, в плече – у 28%. На следующие сутки наблюдалось нарастание болевого синдрома с увеличением частоты до 30,5 и 54,5% соответственно. При этом большая часть болей локализовалась с правой стороны. Характеристики описанной ими симптоматики с течением времени не изменились, а частота ее встречаемости после малоинвазивных гинекологических вмешательств, по данным более поздних исследований, находится в пределах 28,3–72,5% [11, 12].
Патогенез болевого синдрома в области плеча после лапароскопии
Рассматриваемый болевой синдром является вариантом ноцицептивной (соматогенной) боли, возникающей в ответ на активацию чувствительных окончаний нейронов (ноцицепторов) под воздействием раздражающих факторов [13]. После активации болевых рецепторов стимул передается на нейроны, расположенные в задних рогах спинного мозга. Далее стимулы направляются к структурам коры головного мозга, где происходит обработка полученной информации с формированием ощущения боли и ее эмоциональной окраски [14]. Причиной локализации болевых ощущений в области плеча после лапароскопии является раздражение чувствительных окончаний, прежде всего, диафрагмального нерва химическими и механическими факторами [7, 15]. Несмотря на существующую вариабельность анатомического происхождения нерва, чаще всего он берет свое начало из С3–С5 отделов спинного мозга, находясь в тесной связи с плечевым сплетением. Таким образом, возникающие болевые импульсы на уровне диафрагмы могут передаваться в область плеча [16]. Проводящие пути болевого импульса не вызывают дискуссий, в отличие от инициирующего его фактора. На сегодняшний день выделяют три основные теории, объясняющие развитие постлапароскопического болевого синдрома: 1) воздействие угольной кислоты, образующейся из углекислого газа (СО2); 2) формирование «карманов» из остаточного газа после десуфляции; 3) непосредственное повреждение тканей, или теория нейропраксии [7, 17]. Каждая теория послужила поводом для разработки и исследования методов борьбы с нежелательными эффектами пневмоперитонеума и ассоциированной послеоперационной боли.
Теория воздействия угольной кислоты
В основе данной теории лежит представление о том, что при использовании СО2 для пневмоперитонеума образуется угольная кислота, которая приводит к снижению рН брюшины и последующему раздражению нервных окончаний.
Выбор альтернативного газа
Одним из путей предотвращения данного механизма является выбор альтернативного газа. Так, Tserteli Z. et al. выполнили двойное слепое рандомизированное исследование, в котором в группе воздействия использовалась закись азота (N2O) для наложения пневмоперитонеума (52 человека), а в контрольной группе – СО2 (51 пациент) [18]. В послеоперационном периоде болевой синдром оценивался у пациентов c использованием цифровой аналоговой шкалы (ЦАШ, от 0 до 10) через 2, 4 ч и на следующие сутки. В группе пациенток с N2O болевой синдром был статистически ниже (р<0,05), чем в контрольной группе: 4,9 против 5,7 (через 2 ч), 3,3 против 5,1 (через 4 ч), 1,7 против 3,5 (через сутки). Также было отмечено снижение потребности в применении наркотических анальгетиков в группе воздействия. Аналогичные позитивные эффекты от использования N2O в отношении послеоперационного болевого синдрома были описаны Aitola P. et al. при выполнении лапароскопической холецистэктомии [19]. Необходимо отметить, что использование N2O лишено таких побочных эффектов, свойственных СО2, как гиперкапния, респираторный ацидоз, нарушение сердечного ритма и другие [20]. Несмотря на то что в 1970–1980-х гг. в гинекологической лапароскопии отдавали предпочтение именно использованию N2О, его применение было ограничено в связи с неспособностью подавлять горение по сравнению с СО2 и инертными газами [18]. Поводом для прекращения его применения стало два драматических случая, возникших во время лапароскопической стерилизации в разных медицинских учреждениях в 1976 г., а затем 1978 г. [21, 22]. В обоих случаях произошел взрыв в брюшной полости после удаления щипцов-коагуляторов с маточных труб, приведший к смертельному исходу. Несмотря на то что до данных осложнений был накоплен опыт работы с N2O, а также была показана безопасность его использования в единичных исследованиях позднее, возможность применения N2O остается под вопросом. При этом в 2013 г. был опубликован систематический обзор базы Кокрейн, результаты которого подтвердили, что применение N2O сопровождается снижением болевого синдрома в послеоперационном периоде в сравнении с использованием СО2 [23]. Еще одним газом, рассмотренным в данном обзоре, стал инертный газ – гелий. Так, анализируя 4 рандомизированных сравнительных исследования, авторы обзора сделали вывод, что использование гелия сопровождается менее выраженными изменениями со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, чем при применении СО2. При этом значимой разницы в болевом синдроме в двух группах отмечено не было. В связи с этим можно предположить, что меньшая выраженность послеоперационной боли при работе с N2О может быть связана не столько с отсутствием эффектов угольной кислоты (в сравнении с СО2), сколько с собственным центральным анестезирующим действием поглощенной N2О.
Инстилляция физиологического раствора
В поддержку теории раздражающего действия угольной кислоты выступают исследования, показавшие, что введение физиологического раствора в брюшную полость на завершающем этапе операции способствует снижению болевого синдрома. Авторы считают, что данный эффект может быть обоснован удалением избытка СО2 в виде буферного раствора, проникающего в межсосудистое пространство. Затем этот раствор поступает в легкие, откуда после обратной конвертации газ выводится из организма [15]. Так, по данным Tsai H.W. et al., выявлено значимое снижение послеоперационного болевого синдрома при инстилляции физиологического раствора в брюшную полость в конце операции при прекращении инсуфляции газа и открытом клапане центрального троакара [12]. Частота боли в области плеча в исследуемой группе через 24 ч составляла 40,7% против 72,5% (p<0,001) в группе контроля, через 48 ч – 24,1% против 54,9% (p<0,001) соответственно. При анализе боли в области верхней части живота также этот симптом реже встречался в испытуемой группе: 72,2% против 90,2% (p<0,05) через 24 ч и 44,4% против 68,6% (p<0,05) через 48 ч. В большинстве опубликованных работ, посвященных данному способу борьбы с болевым синдромом, количество используемого физиологического раствора рассчитывалось из соотношения 20–30 мл/кг веса [12, 15, 24]. Вливаемый объем физиологического раствора достигал 800–1200 мл. Авторы исследований не отмечали значимых негативных последствий со стороны сердечно-сосудистой или дыхательной систем. Однако подобное воздействие должно быть ограничено у соматически отягощенных пациенток. Также потенциальным побочным эффектом может стать миграция жидкости в подкожную клетчатку с формированием отека (например, отека вульвы) [25]. В связи с этим были проведены исследования, изучающие влияние на постлапароскопический болевой синдром минимального количества 0,9% физиологического раствора. Так, Adlan A.S.A. et al. при использовании раствора объемом 15 мл/кг веса отметили, что степени выраженности болевого синдрома в области плеча через 24, 48 и 72 ч значимо не различались между испытуемой группой и группой контроля [8]. При этом боль в области верхней части живота при движении была значительно ниже через 48 и 72 ч в испытуемой группе. Авторами сделан вывод, что данное количество физиологического раствора, применяемого в конце операции по поводу доброкачественных гинекологических заболеваний, не приводит к уменьшению боли в плече, а повышение используемого объема должно оцениваться в соотношении с потенциальными рисками.
Формирование «карманов» остаточного газа
В основе данной теории лежит представление о том, что остаточные газовые «карманы» между печенью и диафрагмой приводят к потере отрицательного давления в брюшной полости, в результате чего происходит растяжение треугольных и коронарной связок печени [26]. Тракция висцеральных связок приводит к развитию поддиафрагмальной боли и боли в области плеча. Логичным путем снижения болевого синдрома, согласно этой теории, является максимальное удаление газа из брюшной полости в конце операции. Рассмотрим основные из них.
Маневр рекруктирования легочных альвеол
Маневр рекрутирования легочных альвеол (МРЛА), или маневр рекрутмента легких («pulmonary recruitment maneuver»), – это метод повышения давления и/или объема в дыхательных путях с целью расправления коллабированных альвеол и увеличения дыхательной поверхности легких [27]. Он широко известен в анестезиологии и был разработан в целях повышения эффективности лечения дыхательной недостаточности у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом. МРЛА заключается в произведении нескольких коротких (5 с) инсуфляций («вдохов»), производимых анестезиологом при повышенном давлении (до 60 см вод. ст.). При выполнении данного маневра увеличиваются объем легких и, как следствие, их давление на диафрагму. Это действие было взято за основу метода форсированного удаления остаточного газа из брюшной полости при открытых клапанах троакаров. Методика выполнения МРЛА, описываемая исследователями, достаточно стандартизована за исключением уровня используемого давления и положения пациента во время маневра. Garteiz-Martínez D. et al. в 2021 г. опубликовали сравнительное исследование, в котором приняли участие 84 пациента, разделенных на 2 группы [28]. В первой группе в конце операции в положении Тренделенбурга выполнялся МРЛА при пиковом давлении 60 см вод. ст. Во второй группе осуществлялась инстилляция 20 мл 7,5% ропивакаина в брюшную полость через один из троакаров перед пассивной эвакуацией пневмоперитонеума. Эффективность применяемого способа оценивалась через 6 ч после операции путем опроса пациентов с использованием визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), а также с помощью рентгенографического исследования органов грудной клетки с определением объема остаточного СО2. В группе МРЛА закономерно был выявлен меньший объем остаточного газа в сравнении со второй группой (p<0,05), а также менее выраженная интенсивность боли в области плеча. Несмотря на то что методика МРЛА является перспективной в отношении форсированной эвакуации СО2 и связанного с ней снижения послеоперационного болевого синдрома, профиль безопасности данного маневра остается дискутабельным. Так, возможными осложнениями могут быть брадикардия, снижение сердечного выброса, артериальная гипотензия и баротравма с возможным развитием пневмоторакса, пневмомедиастинума, подкожной эмфиземы [29, 30].
С целью профилактики вышеописанных осложнений была исследована возможность уменьшения подаваемого пикового давления во время выполнения маневра. Так, Lee J. et al. выявили, что использование пикового давления 30 см вод. cт. при выполнении МРЛА приводит к статистически значимому снижению боли в области плеча после операции в сравнении с пассивной эвакуацией газа [31]. Yilmaz G. et al. пошли по пути дальнейшего снижения используемого пикового давления, исследуя эффективность МРЛА в двух группах: в первой было использовано давление 15 см вод. ст., во второй – 30–40 см вод. ст. [32]. В данном исследовании маневр выполнялся в положении полу-Фаулера (высота изголовья 30°). Исследование показало, что МРЛА с пиковым давлением на вдохе 15 см вод. ст. также эффективен, как и маневр с более высоким пиковым давлением. Не было обнаружено существенных различий в показателях боли в области плеча ни в одной из временных точек (6, 12, 24 ч). Высота остаточного пневмоперитонеума, по данным рентгенографии, также статистически не различалась между группами (3,4±0,7 мм против 3,2±0,6 мм, p=0,151).
Необходимо отметить, что описанный ранее прием с наполнением брюшной полости физиологическим раствором в конце операции до уровня его «вытекания» через открытые клапаны троакары, рассматривается рядом авторов не только как метод борьбы с СО2-ассоциированным ацидозом, но и как метод активного выведения газа. Ведь в этом случае остаточный газ «вытесняется» жидкостью, наполняющей брюшную полость. Таким образом, данный метод снижает послеоперационный болевой синдром в плече, действуя на два потенциальных звена патогенеза.
Активная аспирация СО2
Еще одним путем борьбы с остаточным газом после лапароскопии является его активное выведение путем аспирации. Так, Leelasuwattanakul N. et al. изучили влияние активной аспирации СО2 на выраженность боли в области плеча у 74 пациенток после диагностической лапароскопии и хромогидротубации [33]. Женщины были разделены на 2 группы: в контрольной группе выполнялась стандартная эвакуация газа; в исследуемой группе через дополнительный порт вводилась аспирационная канюля в поддиафрагмальное пространство под прямой визуализацией. После чего выполнялась аспирация до тех пор, пока париетальная брюшина не приблизится к поверхности печени. В послеоперационном периоде болевой синдром оценивался с использованием ЦАШ через 6, 12 и 24 ч. В результате была выявлена статистически значимая разница (p<0,05) в интенсивности боли между исследуемой группой и контрольной во всех временных точках. Потребность в анальгетиках была закономерно выше в контрольной группе.
Активная аспирация газа по модифицированной методике Chaichian S. et al. у 12 пациенток, перенесших лапароскопические вмешательства на органах малого таза, также показала высокую эффективность [34]. Интенсивная боль в области плеча, соответствующая более чем 2 баллам по ЦАШ, была выявлена у 1 пациентки (8%) через 4 и 12 ч. Среднее значение болевого синдрома характеризовалось 0,8±1,7, 0,8±1,5 и 0,3±0,8 балла через 4, 12 и 24 ч соответственно. Через 48 ч после операции ни одна из пациенток не предъявляла жалобы на боль в области плеча.
Использование дренажей
Одним из вариантов удаления задержавшегося в брюшной полости газа является использование дренажей, которые могут быть как пассивными, так и активными [17]. Так, Haghgoo A. et al. опубликовали данные своего исследования, включавшего 92 пациентки, которым выполнялись гинекологические лапароскопические вмешательства [35]. Пациентки были разделены на 2 группы: в первой на завершающем этапе операции в брюшной полости размещался пассивный дренаж Hemovac, во второй дренирование не проводилось. Исследуемые группы сравнивались по выраженности послеоперационной боли в области плеча по шкале ВАШ через 12, 24 и 48 ч после операции. Боль в области плеча была статистически значимо ниже в группе с использованием дренажной системы (p<0,001) через 12 и 24 ч после операции. Похожие результаты в отношении эффективности использования дренажа с целью профилактики послеоперационного болевого синдрома в области плеча были опубликованы Hosseinzadeh F. et al. в 2020 г. [36]. Важно отметить, что авторы данного исследования оценили дополнительно боль в области послеоперационных ран, что является целесообразным, так как присутствие дренажа может усиливать жалобы на боль в месте его выведения. Однако статистически значимых различий между группами в болевом синдроме в области послеоперационных ран обнаружено не было (p=0,841). Противоположный результат был получен в исследовании Asgari et al. с участием 120 пациенток, которым проводилась диагностическая лапароскопия или лапароскопическая цистэктомия [37]. Пациенткам группы воздействия выполнялось пассивное дренирование брюшной полости в течение 12 ч после операции. Через 12 ч после операции средний балл по шкале ЦАШ в группе дренирования составил 6,01±1,96 против 5,43±1,7 в группе контроля, через 24 ч – 3,86±1,57 против 3,51±1,27 (p=0,6). Авторы не отмечали различий в послеоперационных осложнениях и длительности госпитализации между группами.
Теория нейропраксии
Прямое растяжение диафрагмы и диафрагмального нерва во время операции может привести к отраженному болевому синдрому [7]. C целью элиминации данного фактора проводились исследования, изучавшие влияние снижения давления карбоксиперитонеума на болевой синдром в области плеча и верхней части живота.
Снижение давления пневмоперитонеума
Влияние снижения уровня давления СО2 на болевой синдром в области плеча и живота, по данным исследований, неоднозначно. Так, Radosa J.C. et al. было опубликовано рандомизированное исследование, включавшее 178 пациенток, которым выполнялась лапароскопическая гистерэктомия по доброкачественным показаниям с использованием карбоксиперитонеума, давлением 8 мм рт.ст. (I группа) и 15 мм рт. ст. (II группа) [38].
Через 3, 24 и 48 ч уровень болевого синдрома в области живота и плеча был статистически ниже в группе с более низким давлением. Боль определялась по цифровой рейтинговой шкале. Также авторы отметили большую частоту вегетативных реакций в виде тошноты и рвоты в группе повышенного давления: 20% против 7% (Р≤0,01) и 6% против 0% (Р≤0,01) соответственно. Вызывает интерес исследование, опубликованное коллегами из Турции в 2014 г. [39]. Авторы оценивали влияние уровня карбоксиперитонеума в трех группах: 1-я – пониженного давления 8 мм рт. ст. (54 пациентки), 2-я – стандартного давления 12 мм рт. ст. (45 женщин), 3-я –повышенного давления 15 мм рт. ст. (51 пациентка). Оперативные вмешательства: диагностическая лапароскопия, стерилизация, цистэктомия, тубэктомия. При сравнении интраоперационных показателей в группе пониженного давления продолжительность операции была дольше, чем в двух других. Данный показатель отличался статистически значимо. В отношении болевого синдрома, оцениваемого по ВАШ, через 6 ч разницы между группами отмечено не было. Через 12 ч в группе пониженного давления показатели ВАШ были статистически значимо ниже, чем в двух других группах. При этом через 24 ч уровень болевого синдрома в первых двух группах был одинаковым и значимо отличался от группы повышенного давления, в которой отмечены более высокие показатели. Hamer J. et al. в своем систематическом обзоре, опубликованном в 2021 г., подняли вопрос о целесообразности рутинного использования низкого давления при лапароскопических гинекологических операциях [40]. В результате анализа 5 рандомизированных клинических исследований авторы сделали вывод об отсутствии однозначных показаний для использования низкого давления при лапароскопии в гинекологии в связи минимальным снижением болевого синдрома при ухудшении визуализации операционного поля, а также в связи с недостаточными размерами выборок в произведенных исследованиях.
Орошение брюшины раствором анестетика
Еще одним путем снижения ноцицептивных импульсов с поверхности брюшины является внутрибрюшное введение раствора анестетика. Так, в исследовании Saccardi C. et al. сравнивался эффект от инстилляции в брюшную полость 0,25% раствора ропивакаина, дополненной преинцизионной инфильтрацией троакарных ран по 2 мл раствора на каждую рану, у 95 пациенток [11]. Введение 34 мл раствора в области поддиафрагмального пространства, операционного поля, а также по всей поверхности брюшины производилось в 2 этапа: в начале операции и в конце. В контрольной группе (92 пациентки) вместо раствора анестетика вводили физиологический раствор. Пациентки исследуемой и контрольной групп были разделены на 2 подгруппы в соответствии с объемом вмешательства: в первой подгруппе операции выполнялись на придатках, во второй – на матке. В послеоперационном периоде болевой синдром в области плеча встречался реже в группе с анестетиком: у 10,6% пациенток против 28,3% и у 17,8% против 56,3% в подгруппах операций на придатках и на матке соответственно. Также авторы отметили, что мобилизация пациенток в отделении производилась в более короткие сроки у пациенток испытуемой группы. В то же время в работе Cunningham T.K. et al., где исследовалась эффективность применения 40 мл 0,25% раствора левобупивакаина для орошения брюшины, были получены другие результаты [41]. В испытуемой группе (50 человек) раствором анестетика орошали брюшину малого таза, в группе контроля (50 пациенток) вместо анестетика использовали 40 мл 0,9% физиологического раствора. В послеоперационном периоде снижение болевого синдрома в области плеча было выявлено в испытуемой группе через 3 ч после операции, но данная разница нивелировалась к 8-му часу послеоперационного периода. В данном исследовании орошение выполнялось только в зоне оперативного вмешательства и в конце операции. При этом в опубликованном в 2010 г. метаанализе на основании 6 рандомизированных клинических исследований авторы пришли к выводу, что орошение брюшины раствором анестетика в начале операции приводит к более значимому снижению болевого синдрома по ВАШ в сравнении с орошением по завершении вмешательства [42].
Несмотря на длительный период изучения эффективности данного подхода к снижению болевого синдрома, результаты опубликованных работ противоречивы и разнятся в зависимости от хирургической патологии, области орошения брюшины, количества и вида применяемого анестетика, этапа произведения инстилляции: до наложения пневмоперитонеума/сразу после/в конце операции [17, 42]. Так, авторы систематического обзора базы Кокрейн, посвященного методам профилактики боли в области плеча, пришли к выводу, что применение локальных анестетиков в брюшной полости после лапароскопических гинекологических операций является эффективным, за исключением субдиафрагмального орошения [17]. Однако работы, свидетельствующие в пользу последнего, обладают в большинстве случаев слабой силой доказательности. Выраженная гетерогенность исследований затрудняет процесс анализа результатов и формулирования однозначных выводов в отношении методики.
Заключение
Изучение послеоперационного болевого синдрома в области плеча и верхней части живота, ассоциированного с лапароскопией, продолжается более 40 лет. Предложены патогенетически обоснованные теории его развития, а также пути профилактики этого осложнения. Однако на сегодняшний день вопрос идеального способа остается открытым, а имеющиеся данные исследований нередко противоречат друг другу. В отечественной литературе данная проблема освещена недостаточно, что указывает на необходимость исследования эпидемиологии данного болевого синдрома, а также поиска эффективного и безопасного метода борьбы с ним.