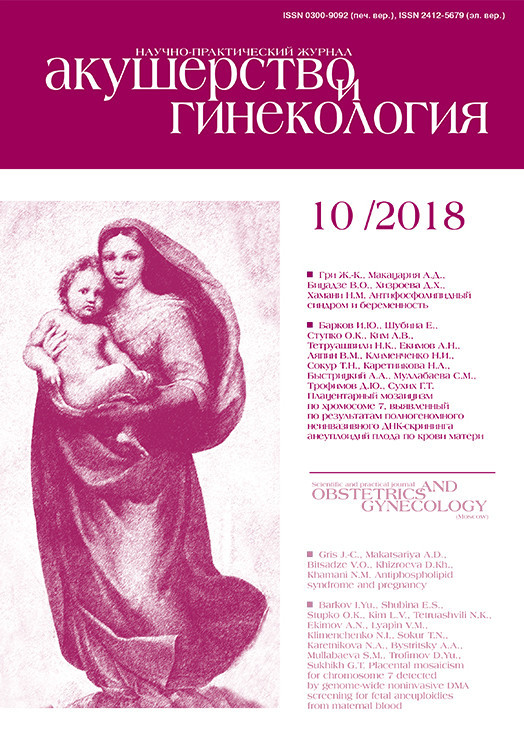Несмотря на достижения медицинской науки, одной из ведущих причин материнской и младенческой заболеваемости и смертности в современном акушерстве остается преэклампсия [1, 2]. Однако в настоящее время наметился определенный прогресс в изучении механизмов возникновения этого грозного осложнения гестации, связанный с изменением представления о сроках исходного формирования преэклампсии [3–5]. В работах последнего периода сформулирована концепция двух клинических фенотипов преэклампсии в зависимости от дебюта заболевания: с ранним началом (до 34 недель) и поздним началом (после 34 недель) [6, 7].
Концепция раннего или позднего начала отображает различия в патофизиологии преэклампсии. Многочисленными работами показаны различия в причинах происхождения данного заболевания: ранняя прэклампсия обусловлена нарушениями плацентации, поздняя связана, как правило, с материнскими факторами [6, 7]. Ранняя преэклампсия встречается реже, но при этом имеет более негативные последствия для матери и плода [8].
Однако значительные достижения в изучении патогенеза данного осложнения гестации не изменили на сегодняшний день частоты его встречаемости. На практике наблюдается отсутствие системного подхода к тактике ведения беременных с угрозой развития преэклампсии при очень ограниченном использовании наработанных в научных исследованиях маркеров преэклампсии. Кроме того, многие вопросы относительно этиопатогенетических факторов преэклампсии до настоящего времени остаются спорными. Таким образом, поиск ранних предикторов, эффективных и экономически доступных при прогнозировании преэклампсии, является приоритетной задачей современного акушерства.
Целью данного исследования стало определение клинико-анамнестических и биохимических предикторов преэклампсии для усовершенствования методов ее раннего прогнозирования и профилактики.
Материал и методы исследования
Для решения поставленных задач из общего количества женщин (n=645), наблюдающихся в течение всей гестации, на основании проспективного анализа клинических данных были отобраны 25 женщин с преэклампсией, составившие первую (основную) клиническую группу. У пациенток, включенных в исследование, преэклампсия была средней тяжести (МКБ О14.0) и развилась после 34 недель беременности (поздняя преэклампсия). Во вторую группу (контрольная) методом случайных чисел были включены 63 пациентки без преэклампсии.
Всем беременным в динамике гестации выполняли комплекс клинических, анамнестических и инструментальных исследований. Скрининговый забор крови осуществляли в сроке беременности 11–13 недель. У женщин выделенных групп был проведен иммуноферментный анализ для определения биохимических маркеров в сыворотке крови: ассоциированного с беременностью плацентарного белка А (PAPP-А), дизинтегрина и металлопротеиназы 12 (ADAM12), ретинолсвязывающего протеина 4 (RBP4), b-субъединицы хорионического гонадотропина человека (b-ХГЧ) и цистатина C. Выбор данного набора биохимических параметров был сделан на основании анализа литературных данных [9–14].
Уровень ADAM12 определяли тест-системами Cloud-CloneCorp (США), цистатина С – тест-системами BioVendor (Чехия), RBP4 – тест-системами AssayPro (США), b-ХГЧ и PAPP-А – тест-системами DELFIA PerkinElmer (Финляндия).
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием в пакете программ Statistica версии 12.5, Excel 2010, SPSS 24.002. В сравниваемых группах для количественных признаков проводили оценку медианы с вычислением 25 и 75% процентилей (1–3 квартили). При сравнении межгрупповых различий применяли непараметрический критерий Краскала–Уоллиса для независимых выборок. Использовался критерий Фишера (φ) для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости заданных показателей. Кроме того, использовался непараметрический корреляционный анализ с применением критерия Спирмена, а также применялся метод «Деревья решений» с целью отнесения определенных объектов к одному из заранее известных классов.
Результаты исследования и обсуждение
В ходе анализа клинико-анамнестических данных были обнаружены следующие факты. При изучении росто-весовых показателей выделенных групп показано, что индекс массы тела (ИМТ) в 11–13 недель беременности у пациенток с преэклампсией статистически значимо выше, чем у беременных контрольной группы. Так, в ходе нашей работы было обнаружено, что ИМТ в ранние сроки гестации у беременных с преэклампсией составлял 29 кг/м2, в то время как у пациенток контрольной группы – 25 кг/м2 (р=0,0001). Одно из самых масштабных исследований на сегодняшний день [15], в котором приняли участие 159 072 беременных, выявило, что фактором риска развития преэклампсии является не только ожирение с ИМТ ≥30,0 кг/м2, но вес женщины с ИМТ=25,0–29,9 кг/м2. Риск развития преэклампсии с таким показателем значительно выше, чем у женщин с ИМТ, равным 20,0 кг/м2 [16]. Наше исследование подтвердило роль ИМТ как независимого фактора развития преэклампсии.
Анализ анамнестических данных показал, что большинство обследованных женщин были повторно беременными, как в контрольной группе, так и в группе беременных с преэклампсией (49 (78%) и 20 (80%); р=0,578). Не отличалось и количество первобеременных в выделенных группах (14 (22%) и 5 (20%); р=0,688). Известно, что преэклампсия в анамнезе является прогностическим фактором развития преэклампсии при настоящей беременности. В нашей работе у 5 (20%) беременных из основной группы отмечалась преэклампсия в анамнезе, в то время как в контрольной группе – у 2 (3%) (p=0,009). Для 4 (16%) пациенток с преэклампсией в анамнестических данных содержалось указание на хронический эндометрит, что достоверно чаще, чем в контрольной группе – 2 (4%) (р=0,0001). Прерывание беременности в анамнезе наблюдалось у 7 (28%) пациенток основной и 21 (33%) контрольной группы (р>0,05). Анализ встречаемости экстрагенитальной патологии обнаружил значимые различия по хроническому пиелонефриту (6 (24%) и 8 (13%); р=0,010) и артериальной гипертензии в анамнезе (10 (40%) и 8 (13%); p=0,0001). Согласно литературным данным [6, 17], для пациенток с артериальной гипертензией в анамнезе повышается риск преэклампсии при настоящей беременности. Результаты нашего исследования подтверждают данные S. Iacobelli с соавт., показавших, что отягощенный соматический анамнез не только по артериальной гипертензии, но и по патологии почек является фактором риска развития преэклампсии [17].
Следующим параметром сравнения являлось среднее артериальное давление (MAP), которое рассчитывалось по формуле: (2 показателя диастолического артериального давления) + (показатель систолического артериального давления))/3. Сравнительный анализ MAP выявил значимо более высокие цифры у беременных с преэклампсией. Кроме того, была выявлена сильная взаимосвязь между группой признаков (MAP, ИМТ) с одной стороны и подгруппами с преэклампсией и условно здоровых с другой стороны (табл. 1). Значения MAP были значимо выше для пациенток с преэклампсией (84 [75; 93] мм рт. ст.) по сравнению с пациентками контрольной группы (78 [73; 83] мм рт. ст., р=0,0082). По данным D. Gallo с соавт. [2], основанным на наблюдении 17 383 беременных, показатель MAP также отличался высокой прогностической эффективностью в отношении преэклампсии.

В нашем исследовании отмечена высокая частота угрозы прерывания настоящей беременности для женщин с преэклампсией в сравнении с пациентками контрольной группы (12 (48%) и 13 (21%); р=0,010), а также увеличение частоты кесарева сечения у беременных с преэклампсией (14 (56%) против 9 (14%), р=0,010). Согласно литературным данным, угроза прерывания беременности в первом триместре связана с патологическим течением гестации, поскольку развитие беременности изначально протекает на неблагоприятном фоне и сопровождается дефектом инвазии хориона [18].
Таким образом, анализ клинико-анамнестических данных позволил выделить ряд характеристик, статистически значимо отличающихся у пациенток выделенных клинических групп, а именно: наличие преэклампсии, хронического пиелонефрита и артериальной гипертензии в анамнезе, высокие значения ИМТ в начале беременности, цифры MAP в ранние сроки беременности, осложнения течения настоящей беременности, такие как угроза прерывания беременности. Анализ полученных данных позволил рекомендовать к применению выделенные факторы, прогнозирующие развитие поздней преэклампсии средней тяжести. Преимущество данного скрининга состоит в отсутствии дополнительных временных и финансовых затрат на обследование и в простоте исполнения. С помощью комбинации предложенных параметров врачи могут оценивать риск развития преэклампсии и принимать решение о необходимости определения дополнительных предикторов.
Следующей задачей нашей работы являлось определение ранних биохимических коррелятов преэклампсии. В настоящее время, несмотря на усилия ученых, ни один биохимический маркер не соответствует определению Всемирной организации здравоохранения по отбору биомаркеров, которые либо прогнозируют, либо диагностируют преэклампсию. Нами проведен анализ концентрации PAPP-A, ADAM12, RBP4, b-ХГЧ и цистатина С в венозной крови пациенток выделенных групп как возможных предикторов преэклампсии (табл. 2).

Одним из вероятных коррелятов преэклампсии рассматривался PAPP-A, используемый в качестве биохимического маркера хромосомных аномалий. Кроме того, в ряде работ отмечается, что PAPP-A применяется для прогноза неблагоприятных исходов беременности, задержки внутриутробного развития, преждевременных родов, мертворождения [9]. Сравнительный анализ PAPP-A у беременных выделенных в нашем исследовании групп показал отсутствие значимых различий (1,92 [0,80; 2,82] МЕ/мл и 2,26 [1,14; 3,84] МЕ/мл; р=0,269). Полученные результаты согласуются с данными ряда авторов [10, 11], отрицающими прогностическую ценность PAPP-A у пациенток с поздней преэклампсией.
Следующим биомаркером сравнения являлся ADAM12, который участвует в расщеплении белка, связывающего инсулиноподобный фактор роста [12]. Исследуемый фактор оказывает опосредованное влияние на взаимодействие в межклеточных пространствах между зародышевым трофобластом и материнскими децидуальными клетками при формировании и функционировании плаценты и, таким образом, вносит свой вклад в механизмы регуляции полноценной сосудистой системы хориона. Уровень ADAM12 (1,79 [0,93; 2,30]) у женщин с преэклампсией был значимо выше (р<0,001), чем в контрольной группе (0,84 [0,48; 1,29]). В исследовании E. Matwejew с соавт. были выявлены повышенные уровни ADAM12 у женщин с преэклампсией по сравнению с группой контроля [13]. Результаты проведенного нами исследования подтвердили значение ADAM12 как возможного раннего маркера развития поздней преэклампсии средней тяжести. Известно, что RBP4 вместе с PAPP-A участвует в формировании плаценты, а его альтерация и дисфункция могут иметь существенное значение в развитии преэклампсии [19]. Кроме того, так называемые адипокины, одним из которых является RBP4, играют значительную роль в развитии резистентности к инсулину, метаболизме липидов, атеросклерозе и системном воспалительном ответе. Определение RBP4 в нашей работе показало, что беременные с поздней преэклампсией средней тяжести характеризовались более высоким уровнем данного параметра (44,36 [34,95; 48,52] мкг/мл) по сравнению с женщинами контрольной группы (32,53 [25,81;36,29] мкг/мл). Ранее Р. Mendola с соавт. [20] определили повышение уровня RBP4 при преэклампсии (р=0,022). Кроме того, авторы обнаружили, что уровень RBP4 значительно выше у беременных с тяжелой преэклампсией (р=0,046). Однако в другом исследовании [21] не подтвердилась роль RBP4 для раннего прогнозирования преэклампсии. Полученные результаты авторы связывают с тем, что все женщины в их исследовании имели нормальный ИМТ. В некоторых исследованиях обнаружено, что плацентарная экспрессия цистатина С повышается при преэклампсии, что приводит к увеличению уровня этого показателя в плазме крови. В нашей работе показано, что содержание цистатина С у пациенток с преэклампсией не имело значимых отличий от значения этого показателя у пациенток группы контроля (р=0,160). Аналогичные результаты с отсутствием статистической разницы между пациентками обеих групп (р=0,544) были получены по уровню b-ХГЧ. В литературе приводятся данные о том, что комбинированный скрининг с использованием материнских факторов и сывороточного b-ХГЧ повышает эффективность определения ранней преэклампсии, но не преэклампсии после 37 недель [22].
Согласно дизайну нашего исследования, для каждого показателя в группе беременных с преэклампсией осуществлялся корреляционный анализ, по результатам которого определили статистически значимую прямую корреляцию взаимодействия ADAM12 и RBP4 (p=0,02), а также цистатина С и RBP 4 (p=0,04). Для женщин контрольной группы значимая связь была найдена между уровнями ADAM12 и RBP 4 (р=0,03). Таким образом, полученные результаты позволили предположить, что биомаркеры ADAM12 и RBP4 являются диагностически значимыми для раннего прогнозирования поздней преэклампсии средней тяжести.
С целью определения наиболее точных, чувствительных и специфичных показателей использовался метод «Деревья решений» (с разделением выборки на обучающую и проверочную) с методом построения «исчерпывающий CHAID», с помощью которого была выявлена значимая взаимосвязь между группой признаков (RBP4, ADAM 12) с одной стороны и подгруппами с преэклампсией и условно здоровых – с другой стороны. Так, при концентрации RBP4>87,90 мкг/мл беременных необходимо отнести в группу высокого риска по развитию преэклампсии. Также, если RBP4<=87,90 мкг/мл и одновременно ADAM12 > 2,33 нг/мл беременных тоже необходимо отнести в группу высокого риска по развитию преэклампсии. Прогноз преэклампсии в рамках данного метода осуществляется с чувствительностью 87,5% и специфичностью 85% при отношении шансов =39,667 [3,498; 49,83].
Заключение
Преэклампсия, являясь грозным осложнением гестации, встречается у 3% всех беременных и, согласно современной отечественной классификации, подразделяется на раннюю (до 34 недель) и позднюю (после 34 недель). Перспективным направлением научных исследований остается поиск комплекса параметров, сигнализирующих на ранних сроках гестации о развитии поздней преэклампсии и тяжести ее течения. Анализ литературных данных показал, что лучшей предсказательной значимостью обладает сочетание клинических данных и биохимических характеристик. И сегодня усилия ученых направлены на разработку и совершенствование многофакторных моделей прогнозирования преэклампсии.
В нашем исследовании показано, что можно прогнозировать позднюю преэклампсию средней тяжести в ранние сроки по совокупности материнских факторов (ИМТ и МАР). Однако более точный прогноз можно дать после определения биохимических маркеров RBP4 и ADAM12. Повышение этих показателей на фоне увеличения ИМТ и МАР в сроке 11–13 недель беременности определяет с высоким уровнем вероятности развитие преэклампсии средней тяжести после 34 недель (метод с чувствительностью 87,5% и специфичностью 85%). Важными анамнестическими маркерами преэклампсии являются артериальная гипертензия в анамнезе, хронический пиелонефрит, а также преэклампсия при предшествующих беременностях.
Обобщение полученных результатов позволило сформулировать следующие количественные критерии и практические рекомендации. При наличии MAP>98 мм рт. ст. и ИМТ>30,5 кг/м2 в 11–13 недель беременности с указанием в анамнезе на преэклампсию при предыдущих беременностях, хроническую артериальную гипертензию и хронический пиелонефрит, беременные могут быть отнесены к группе высокого риска по развитию преэклампсии после 34-й недели беременности. При определении уровня RBP4 более 87,90 мкг/мл и ADAM12 более 2,33 нг/мл показано своевременно (не позднее 34 недель) определить оптимальное место и срок родоразрешения.