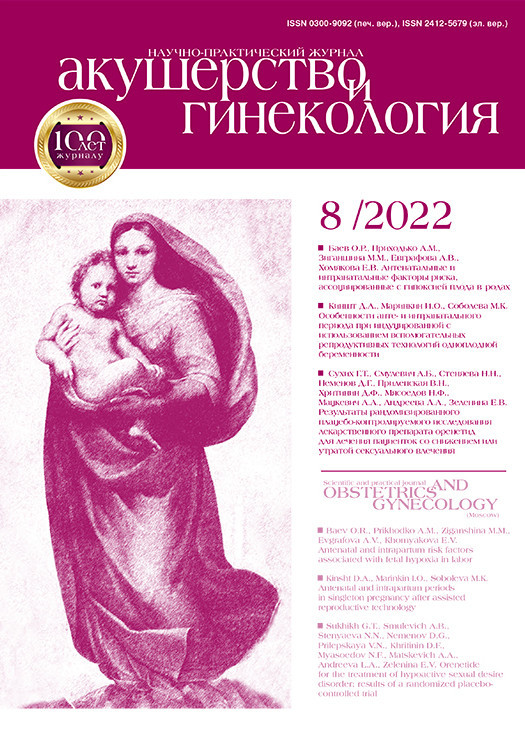Эндометриоз – заболевание, характеризующееся наличием ткани, подобной эндометрию, вне полости матки. Сообщается, что во всем мире эндометриозом страдают примерно 10% женщин репродуктивного возраста, однако реальная распространенность заболевания неизвестна из-за разнообразия симптомов и необходимости гистологического исследования эндометриоидных очагов для окончательного диагноза [1].
В настоящее время принято выделять генитальный и экстрагенитальный (ЭЭ) эндометриоз. К генитальному эндометриозу относятся поверхностный перитонеальный эндометриоз, глубокий инфильтративный эндометриоз, эндометриоидные кисты и аденомиоз [2]. ЭЭ встречается реже и может поражать кишечник, мочевой пузырь, органы грудной клетки, нервную систему [3].
В гайдлайне ESHRЕ «Эндометриоз» (2022) [4] особый акцент делается на жалобы, связанные с ЭЭ, который встречается в 6–8% всех случаев заболевания [5]. Рекомендуется заподозрить эндометриоз у пациенток с дисменореей, выраженной диспареунией, дизурией, дисхезией, бесплодием, ректальными кровотечениями, гематурией, циклической болью в плечевом суставе, катамениальным пневмотораксом, кашлем, связанным с менструальным циклом, кровохарканьем, болью в грудной клетке, отеком и болью в области послеоперационного рубца после операции кесарева сечения [4, 6, 7].
Одной из часто встречающихся форм ЭЭ является поражение желудочно-кишечного тракта. Распространенность составляет от 3,8 до 37% среди больных, страдающих эндометриозом. Чаще всего поражается сигмовидная и прямая кишка, реже подвздошная кишка, аппендикс, слепая кишка и печень [8].
В 2021 г. международной группой ассоциаций AAGL, ESGE, ESHRE и WES была разработана интернациональная терминология по эндометриозу, согласно которой эндометриоз кишечника – это поражение, локализующееся внутри стенки кишки. Очаги на перитонеальной поверхности кишечника относятся к перитонеальному эндометриозу [9].
Эндометриоз кишечника часто скрывается под маской различных заболеваний: синдрома раздраженного кишечника, кишечной инфекции, воспалительных заболеваний кишечника, аппендицита и злокачественных новообразований. Клинические проявления включают спастические боли в животе, дисхезию, тенезмы, метеоризм, запор, мелену, диарею, рвоту, гематохезию, боль после еды и при акте дефекации [8].
При подозрении на заболевание необходимо обследование для определения распространенности поражения, глубины инвазии и расстояния от анального отверстия с помощью таких методов визуализации, как трансвагинальное ультразвуковое исследование (УЗИ) высокого разрешения и/или магнитно-резонансная томография (МРТ) [8]. Рутинно назначать колоноскопию для диагностики эндометриоза кишечника не рекомендуется [10].
В настоящее время не существует рекомендаций с высоким уровнем доказательности, определяющих тактику ведения пациенток с эндометриозом кишечника, стандартизирующих показания к оперативному лечению и хирургическую технику.
Согласно зарубежному гайдлайну (Япония) по лечению пациенток с ЭЭ, хирургическое лечение эндометриоза кишечника показано при наличии симптомов и отсутствии эффекта от медикаментозной терапии [11]. Однако очевидно, что необходимо учитывать возраст пациентки, репродуктивные планы, риск возможных осложнений, связанных с проведением оперативного лечения [12].
Vercellini P. et al. предлагают следующие показания для оперативного лечения: 1) очаг расположен выше среднего отдела прямой кишки (среднеампулярного) и/или степень стеноза просвета составляет 60% и более, или поражение инфильтрирует 50% и более окружности кишки, или наибольший размер очага составляет >3 см; 2) наличие тяжелых симптомов частичной обтурационной кишечной непроходимости; 3) стеноз мочеточника с гидроуретеронефрозом; 4) образования придатков матки размером >5 см или с подозрительными сонографическими признаками; 5) планирование беременности [13]. Основными хирургическими техниками являются шейвинг, дисковидная резекция и циркулярная резекция кишки [14]. Частота послеоперационных осложнений выше у пациенток после циркулярной резекции и составляет около 20% [15, 16]. К ним относятся формирование ректовагинального свища, несостоятельность анастомоза, тазовый абсцесс, кровотечение, травма мочеточника, стеноз анастомоза, непроходимость кишечника. Повреждение нижнего гипогастрального сплетения и его висцеральных ветвей может приводить к функциональным нарушениям работы кишечника и мочевыделительной системы [14].
В своем исследовании Hernandez Gutierrez A. et al. сравнивали частоту осложнений и гистологически верифицированного рецидива эндометриоза у больных, которым проводились циркулярная резекция, дисковидная резекция или шейвинг кишки. Общая частота осложнений была выше (31,5%), а частота рецидива ниже в группе пациенток после циркулярной резекции (1,3% против 5% и 12,7% соответственно) [17].
При анализе результатов оперативного лечения колоректального эндометриоза у 220 пациенток Поповым А.А. и соавт. получены данные о большей эффективности радикального хирургического лечения колоректального эндометриоза (циркулярная резекция кишки) по сравнению с другими методиками оперативного вмешательства в отношении купирования болевого синдрома и кишечных проявлений. Общая частота рецидива заболевания составила 7,7%, из них в 82,4% случаев пациенткам был проведен шейвинг кишки, в 17,6% – циркулярная резекция кишки с наложением анастомоза [18].
В систематическом обзоре при анализе наблюдений после выполнения сегментарных резекций кишки было отмечено, что частота рецидива болевого синдрома после оперативного лечения составила 23,8%, рецидив эндометриоза наблюдался в 13,9% [16]. В представленных клинических случаях эндометриоз терминального отдела подвздошной часто манифестировал в виде острой кишечной непроходимости (ОКН) [19–21]. Отмечено, что при данной локализации эндометриоза оперативное вмешательство является обязательным этапом лечения, даже при отсутствии экстренных показаний в виде ОКН.
В работе Mabrouk M. эндометриоз аппендикса был обнаружен у 2,6% больных с эндометриозом. Такая локализация не имеет специфических клинических симптомов и чаще является интраоперационной находкой [22]. Sooklal S. сообщили о случае изолированного эндометриоза аппендикса, обнаруженного в виде выпячивания в устье червеобразного отростка во время колоноскопии у женщины 51 года без какой-либо клинической симптоматики [23].
В англоязычной и русскоязычной литературе в общей сложности представлено около 50 случаев эндометриоза печени. Самым частым симптомом являются жалобы на тяжесть, боли, чувство «распирания» в эпигастральной области и в правом подреберье. В ряде исследований описан циклический характер болей, связанных с менструальным циклом [24]. Учитывая отсутствие специфических признаков, позволяющих провести дифференциальную диагностику между эндометриозом печени и другими новообразованиями, хирургическое лечение остается методом выбора [25].
Первый случай эндометриоза селезенки описан и опубликован в 2022 г. До этого считалось, что селезенка обладает «иммунитетом» против эндометриоза. В представленном клиническом случае указано, что 10 лет назад пациентке была проведена спленоррафия после тупой травмы живота. Интересно, что одна из техник спленоррафии включает формирование «заплаты» из сальника. Авторы считают, что это могло способствовать имплантации эндометриоидных клеток [26].
Согласно гайдлайну ESHRE «Эндометриоз» (2022), с целью облегчения симптомов при абдоминальной форме ЭЭ предпочтительным методом является хирургическое лечение, когда это возможно. Гормональное лечение также может быть альтернативным вариантом терапии, когда хирургическое вмешательство невозможно или неприемлемо [4]. С нашей точки зрения, важным направлением у больных с ЭЭ является профилактика рецидивов.
Медикаментозная терапия при экстрагенитальной локализации эндометриоза назначается с той же целью, что и при наружном генитальном эндометриозе (НГЭ) – для уменьшения или полного устранения эктопических очагов эндометрия. В качестве медикаментозной терапии могут быть использованы агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), прогестагены, комбинированные оральные контрацептивы, антипрогестагены [27].
Женщинам с эндометриоз-ассоциированным болевым синдромом, не поддающимся другим видам медикаментозного или хирургического лечения, рекомендуется назначать ингибиторы ароматазы. Данные препараты могут назначаться в сочетании с комбинированными контрацептивами, прогестагенами, агонистами ГнРГ или антагонистами ГнРГ [4].
Для решения вопроса о выборе конкретного метода лечения следует учитывать возраст, тяжесть симптомов и репродуктивные планы [7, 13]. Синтетические агонисты ГнРГ (аГнРГ) рекомендованы с целью подавления овариального синтеза эстрогенов и уменьшения их образования в эндометриоидных гетеротопиях, что приводит к устранению болевого синдрома и способствует достижению стойкой ремиссии [28]. Однако длительное лечение аГнРГ ограничено побочными нейровегетативными и психоэмоциональными проявлениями, а также негативным влиянием на минеральную плотность костной ткани. Известно, что применение аГнРГ на период более 6 месяцев требует назначения «терапии прикрытия» [29]. Согласно гайдлайну ESHRE (2022), аГнРГ рассматриваются как вторая линия терапии (если комбинированные контрацептивы или прогестагены оказались неэффективными) из-за их побочных эффектов [4].
Авторы систематического обзора 2019 г. предполагают возможное использование относительно нового антагониста ГнРГ (антГнРГ), который, в отличие от аГнРГ, применяется перорально и характеризуется отсутствием «фазы вспышки». Однако данные о применении ан-ГнРГ при экстрагенитальных формах эндометриоза в литературных источниках не представлены [30].
В настоящее время монотерапия прогестагенами у пациенток с эндометриозом рекомендуется в качестве терапии первой линии [1]. На основании экспериментальных моделей, клинических исследований, а также реальной клинической практики имеются данные о высоком профиле безопасности, хорошей переносимости и эффективности диеногеста 2 мг в терапии различных форм генитального эндометриоза [29].
По сравнению с аГнРГ использование диеногеста сопровождается меньшим количеством побочных эффектов, связанных с умеренной гипоэстрогенией, отсутствием негативного метаболического действия и менее выраженным влиянием на минеральную плотность костной ткани. Эффективность и безопасность применения диеногеста 2 мг были подтверждены данными длительных наблюдений с большим числом участниц [31–33].
При наблюдении за больными с поражением ректосигмоидного отдела толстой кишки, длительно получавшими диеногест 2 мг, через 6 месяцев лечения было отмечено значительное уменьшение выраженности большинства кишечных симптомов, таких как дисхезия, запор, диарея, ощущение неполного опорожнения, через 12 месяцев – улучшение пассажа слизи и прогрессирующее уменьшение дисхезии. В дальнейшем интенсивность симптомов оставалась стабильной до 36 месяцев лечения. По данным УЗИ уменьшение объема эндометриоидных инфильтратов не менее чем на 10% наблюдалось у 52,9% процентов больных. Однако у 11,8% пациенток наблюдалось увеличение объема эндометриоидных поражений во время лечения [34].
Приводим один из клинических примеров тактики ведения пациентки с эндометриозом кишечника.
Клиническое наблюдение № 1
Пациентка У., 35 лет, в сентябре 2020 г. обратилась за медицинской помощью в ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» после проведенного в июле в другом учреждении оперативного вмешательства по поводу острой обтурационной тонкокишечной непроходимости. Были выполнены лапаротомия, устранение тонкокишечной непроходимости, резекция восходящего отдела ободочной кишки с илеотрансверзоанастомозом «бок в бок». По результатам гистологического исследования в стенке подвздошной кишки обнаружены очаги цитогенной стромы с эндометриоидными железами в них; в лимфатических узлах опухолевых элементов не обнаружено. В послеоперационном периоде пациентке была назначена гормональная терапия – инъекции аГнРГ без предшествующего гормонального обследования. Из анамнеза: менструации с 14 лет по 5 дней, через 25–26 дней, регулярные, умеренные, болезненные (7–8 баллов по визуально-аналоговой шкале); беременностей 3, 2 артифициальных аборта, 1 срочные роды без особенностей. В беременности не заинтересована. Впервые эпизод болей в околопупочной области пациентка отметила в декабре 2019 г. за 7 месяцев до операции. Эпизоды болей периодически повторялись. Были выполнены фиброгастродуоденоскопия, УЗИ органов брюшной полости, по результатам которых, со слов пациентки, патологии не выявлено. Симптомы купировались на фоне приема спазмолитиков.
По данным МРТ с внутривенным контрастным усилением до 1-й инъекции аГнРГ (на 6-й день менструального цикла): признаки множественной миомы матки FIGO 4–5 (максимальный размер узла 42×40 мм), аденомиоза, переходная зона неравномерной толщины до 11 мм, эндометрий 5 мм.
Пациентке было рекомендовано продолжить курс терапии аГнРГ в общей сложности до 6 месяцев. После 2-й инъекции больная наблюдала болезненную менструальноподобную реакцию. Далее на фоне терапии аГнРГ пациентка отмечала отсутствие менструаций, болевого синдрома, появление приливов до 15 раз в сутки, получала фитоэстрогены с положительным эффектом. Стул оформленный, регулярный. По данным МРТ с внутривенным контрастным усилением на фоне 6-й инъекции аГнРГ: признаки множественной миомы матки (максимальный размер узла составил 23×20 мм), аденомиоза, эндометрий 2 мм. После окончания курса аГнРГ пациентке рекомендован прием диеногеста в дозировке 2 мг ежедневно непрерывно длительно. В настоящее время длительность применения диеногеста составила 19 месяцев, на фоне лечения – аменорея, приливы не беспокоят, на основании данных УЗИ органов малого таза роста миоматозных узлов нет, переносимость терапии хорошая. Данных, свидетельствующих о рецидиве эндометриоза на основании клинического, лабораторного и инструментального обследования, не отмечено.
Второй наиболее распространенной локализацией экстрагенитального эндометриоза являются органы мочевыводящей системы: 0,3–12% среди больных эндометриозом. Распространенность заболевания отдельных локализаций следующая: мочевой пузырь – 85%, мочеточник – 10%, почки – 4% и уретра – 2% [35]. Эндометриоз мочевого пузыря диагностируется при поражении мышечной оболочки органа и/или эпителия [9]. Заболевание протекает бессимптомно до 50% случаев. Пациентки могут предъявлять жалобы на болезненное, учащенное мочеиспускание, рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, гематурию и иногда на недержание мочи. Диагностика обязательно включает проведение ультразвукового исследования, при необходимости – МРТ. Цистоуретроскопия рекомендована пациенткам с гематурией и наличием образования мочевого пузыря по данным УЗИ или МРТ. Первая линия терапии для купирования симптомов при отсутствии показаний к оперативному лечению со стороны других локализаций эндометриоза, признаков гидронефроза, репродуктивных планов – гормональное лечение [35]. Angioni S. et al. на небольшой выборке пациентов продемонстрировали эффективность применения диеногеста 2 мг для уменьшения симптомов эндометриоза мочевого пузыря, а также зарегистрировали уменьшение размеров очагов по данным УЗИ на фоне приема [36]. В исследовании Hirata T. эффективность применения аГнРГ, диеногеста 2 мг и оральных контрацептивов для облегчения симптомов составила 66,7, 66,7 и 30,0% соответственно [37].
Эндометриоз передней брюшной стенки – самая распространенная форма эндометриоза за пределами брюшной полости и малого таза, включающая эндометриоз пупка и эндометриоз послеоперационного рубца. Частота встречаемости эндометриоза области пупочного кольца составляет 0,5–1% среди всех форм заболевания. Результаты систематического обзора исследований показали, что в двух третях случаев заболевание развивается первично по отношению как к наличию других форм эндометриоза, так и оперативным вмешательствам в анамнезе. Частыми жалобами являются боль в околопупочной области и катамениальные симптомы, такие как появление уплотнения, изменение цвета, консистенции мягких тканей пупка, тенезмы, кровянистые выделения из пупка [38]. Для диагностики используются различные методы визуализации – УЗИ, КТ, МРТ, чувствительность которых составляет 76,5, 75,6 и 81,8% соответственно. Терапия выбора – полное иссечение поражения [4]. Эффективность симптоматического дооперационного лечения препаратами диеногест 2 мг, аГнРГ и оральными контрацептивами составляет 91,7, 81,8 и 57,1% соответственно [39].
Одной из форм ЭЭ является торакальный эндометриоз, который проявляется катамениальным пневмотораксом, гемотораксом и образованием эндометриоидных очагов в легочной ткани, париетальной, висцеральной плевре и бронхах [5, 6].
Российское общество хирургов определяет катамениальный пневмоторакс как рецидивирующий (не менее 2 эпизодов), спонтанный пневмоторакс, связанный с менструацией и возникающий в течение суток до ее начала или в последующие 72 часа [6].
Согласно обзору 2020 г., КП является наиболее частой формой клинического проявления торакального эндометриоза (72–73%) [3]. В 2019 г. Gil Y. et al. обобщили данные о 490 случаях КП в систематическом обзоре, на основании которого распространенность КП варьирует от 7,3 до 36,7% среди всех случаев пневмоторакса у женщин репродуктивного возраста. Интересно отметить, что генитальный эндометриоз был диагностирован у 55% пациенток с катамениальным пневмотораксом, таким образом,можно предположить, что торакальный эндометриоз является вторичным поражением. Пневмоторакс обнаруживали преимущественно (в 93% случаев) в правом легком. Левосторонний пневмоторакс был диагностирован только в 2,65% случаев, в остальных случаях наблюдалось двустороннее поражение. В обзоре также были опубликованы данные, что 17% пациенток с КП курили [30].
Этиопатогенез КП остается до конца не изученным. Был выдвинут ряд теорий, включая теорию целомической метаплазии, ретроградной имплантации эндометриоидной ткани путем гематогенной или лимфогенной диссеминации либо через дефекты диафрагмы [40]. Согласно теории ретроградной менструации, перитонеальная жидкость, содержащая фрагменты ткани эндометрия, попадает из малого таза в околоободочные каналы. Во время выдоха жидкость поступает в лимфатические каналы в диафрагме, вынося клетки эндометриоидной ткани в грудную полость. Ввиду анатомического различия правой и левой сторон брюшной полости (наличие преграды в виде серповидной связки печени) поток в основном идет в правое надпеченочное и поддиафрагмальное пространства. Диафрагмальные дефекты также в основном обнаруживаются справа. Вышеописанное может служить объяснением, почему торакальный эндометриоз чаще встречается справа [30].
В обзоре, опубликованном в 2020 г., был выдвинут ряд гипотез относительно того, как воздух попадает в грудную полость [3]. Первая теория предполагает трансдиафрагмальное прохождение воздуха через дефекты диафрагмы из матки по фаллопиевым трубам во время менструации. Согласно второй гипотезе считается, что эндометриоз плевры может привести к перфорации альвеол и последующему скоплению воздуха. Третья теория связана с влиянием простагландинов. Содержание простагландина F2a, способствующего сужению сосудов и бронхиол, повышается во время менструации в плазме крови, что может быть причиной возникновения бронхоспазма, вазоконстрикции и последующего разрыва альвеол [3].
Диагностика КП основывается на клинической картине заболевания и анамнезе пациентки. Согласно рекомендациям ESHRE, отмечено, что целесообразно обсуждать диагностику и лечение экстрагенитальных форм эндометриоза комиссией из многопрофильных врачей в специализированном центре с достаточным опытом [4].
Основной жалобой пациенток с КП (в 90% случаев) является боль в грудной клетке, плече справа, усиливающаяся во время менструации. Кроме того, как уже отмечалось ранее, возможными симптомами могут быть одышка, кашель, боль в руке и в шее, кровохарканье. Однако отсутствие симптомов не исключает диагноз. Вопросы для исключения КП следует задавать всем больным генитальным эндометриозом, так как пациентки часто самостоятельно не связывают эту жалобу с диагнозом [4, 7].
Важным этапом дооперационного обследования больных является сбор анамнестических данных, позволяющий выяснить гинекологический анамнез: количество беременностей, родов, наличие дисменореи, перенесенные хирургические вмешательства на органах репродуктивной системы. Обязательным этапом обследования должен быть осмотр акушером-гинекологом, нацеленный на выявление генитального эндометриоза или его исключение [41].
Основную роль в инструментальной диагностике катамениального пневмоторакса играют радиологические методы. Сообщается, что МРТ предпочтительнее для диагностики поражений диафрагмы и плевры, поскольку чувствительность данного метода для мягких тканей выше, чем КТ, на 78–83%. Вероятнее, чувствительность радиологических методов выше, если они выполняются во время менструации. С помощью рентгенографии органов грудной клетки можно диагностировать пневмоторакс, но данный метод играет минимальную роль в диагностике поражений плевры и диафрагмы [30].
Золотым стандартом диагностики торакального эндометриоза является видеоторакоскопия, которая позволяет провести полное внутригрудное обследование, включая осмотр париетальной и висцеральной плевры, легкого и диафрагмы, а затем иссечь или скоагулировать обнаруженные эндометриоидные очаги [3].
Терапия КП включает комбинированное лечение с хирургическими и медикаментозными методами, причем комбинация хирургического вмешательства и гормональной терапии, как правило, характеризуется более низкой частотой рецидивов, чем только операция или гормональное лечение [3, 40].
Эндометриоз-ассоциированный пневмоторакс является показанием к плановому хирургическому лечению. Во время операции при выявлении поражения диафрагмы рекомендуется использовать резекцию ее сухожильной части или ушивание дефектов, пликацию диафрагмы или пластику синтетической полипропиленовой сеткой, дополняемые костальной плеврэктомией [6]. Однако активная хирургическая тактика оправдана при рецидивах легочного кровотечения и при возможности выполнения радикальной операции [5].
Согласно гайдлайну ESHRE «Эндометриоз» (2022), при торакальном эндометриозе может быть использовано гормональное лечение. Оперативное вмешательство должно проводиться мультидисциплинарно с участием торакального хирурга и/или других соответствующих специалистов. В рекомендациях также отмечено, что пациентке, не имеющей репродуктивных планов, которая отказывается от торакальной хирургии или при неполной резекции эндометриоидных очагов, может быть предложена двусторонняя аднексэктомия [4].
Мы имеем достаточно большой клинический опыт ведения пациенток с катамениальными пневмотораксами, ассоциированными с эндометриозом, и приводим в качестве примера один из клинических случаев.
Клиническое наблюдение №2
Пациентка С., 38 лет, в феврале 2021 г. обратилась за медицинской помощью в ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» с жалобами на болезненные менструации с периода менархе, невыраженную боль давящего характера в правой половине грудной клетки. Из анамнеза: менструации с 13 лет по 5–6 дней, через 25–26 дней, регулярные, умеренные, болезненные (5–7 баллов по визуально-аналоговой шкале). В начале января 2021 г. пациентка была госпитализирована в городскую больницу Санкт-Петербурга, где ей был выставлен диагноз правостороннего спонтанного пневмоторакса, выполнены торакоцентез и дренирование правой плевральной полости по Бюлау. Пациентка выписана с рекомендацией о проведении оперативного лечения в плановом порядке. В конце января 2021 г. во время менструации пациентка повторно госпитализируется в хирургическое отделение с диагнозом: рецидивирующий пневмоторакс. Первым этапом был выполнен разрез грудной стенки и плевры с дренированием плевральной полости по Бюлау. На рентгенографии обнаружен минимальный апикальный правосторонний пневмоторакс 3 мм, дренаж в верхних отделах правой плевральной полости. Отмечено, что легочный рисунок не изменен. После чего были выполнены видеоторакоскопия справа, резекция диафрагмы, субтотальная костальная плеврэктомия с целью профилактики рецидива заболевания. Выполнено гистологическое исследование, подтверждающее эндометриоидное поражение диафрагмы. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка выписана под наблюдение акушера-гинеколога.
При дообследовании выявлено повышение уровня СА-125 крови в 1,5 раза выше диапазона нормальных референсных значений (50 МЕ/мл). Результаты гормонального обследования на 3-й день менструального цикла: антимюллеров гормон – 1,03 нг/мл, фолликулостимулирующий гормон – 10,14 МЕ/л, лютеинизирующий гормон – 5,09 МЕ/л. При УЗИ органов малого таза установлен аденомиоз. Учитывая результаты обследований и отсутствие репродуктивных планов, пациентке назначена гормональная терапия – 4 инъекции аГнРГ. На фоне терапии пациентка отмечает отсутствие менструаций, болевого синдрома, но беспокоят приливы жара до 10 раз в сутки, выраженная лабильность настроения. Назначены фитоэстрогены, на фоне которых количество приливов уменьшилось, но сохранялась эмоциональная лабильность. После окончания курса аГнРГ, не дожидаясь восстановления менструального цикла – через 3 недели после 4-й инъекции пациентке рекомендован переход на диеногест в дозировке 2 мг ежедневно непрерывно длительно. На фоне лечения диеногестом наблюдается аменорея, отсутствуют приливы, эмоциональное состояние стабильное. По данным УЗИ и на основании клинической картины прогрессирования аденомиоза не отмечалось. За период наблюдения, составившего 13 месяцев, рецидива КП не было.
Одной из редких локализаций ЭЭ является нервная система. Среди поражений периферической нервной системы наиболее часто встречается вовлечение нервов пояснично-крестцового и крестцового сплетений (57%) и седалищного нерва (39%) [42]. Клиническая картина может включать боли по типу радикулопатии, при глубокой инфильтрации нерва с аксональной деструкцией боли могут сопровождаться нарушением двигательной функции [43].
В литературе представлены 3 гистологически подтвержденных случая эндометриоза головного мозга у пациенток c генерализованными судорожными припадками, опубликованных Thibodeau L.L. et al., Ichida M. et al., Meggyesy M. et al. [44–46]. Vilos G.A. et al. описали случай эндометриоза головного мозга у пациентки 41 года с неврологическими симптомами, связанными с менструацией, в виде судорог, правосторонней гемипарестезии и головной боли. По данным КТ и МРТ обнаружена аномальная структура размерами 7×8 мм, гистологическая верификация не проводилась. Симптомы полностью разрешились после лечения аГнРГ в течение 3 месяцев с последующей двусторонней овариоэктомией [47]. Maniglio P. et al. удалось достичь ремиссии симптомов катамениальной эпилепсии сначала на фоне использования аГнРГ в течение года, затем на фоне применения диеногеста 2 мг (длительность наблюдения составила 24 недели) [48].
Заключение
Частота встречаемости ЭЭ составляет 6–8% среди всех форм эндометриоза, однако в последние годы наблюдается увеличение распространенности заболевания. Широкий спектр неспецифических клинических проявлений и связанные с этим трудности при диагностике ЭЭ различной локализации приводят к задержке постановки диагноза и отсутствию патогенетически обоснованной терапии. Для диагностики и лечения экстрагенитальных форм эндометриоза необходим междисциплинарный подход с привлечением гинекологов, общих и торакальных хирургов, урологов, гастроэнтерологов, неврологов для решения вопроса о персонифицированной тактике ведения пациенток и обязательным назначением долговременной патогенетически обоснованной противорецидивной терапии.