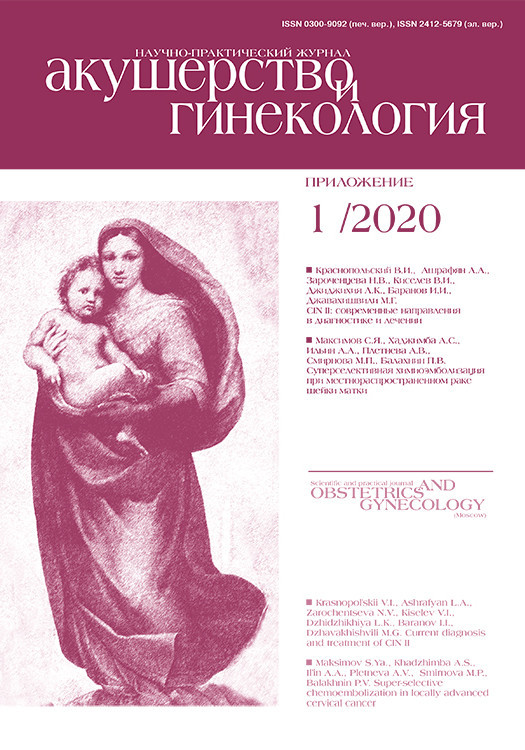Профилактика онкологических заболеваний является приоритетной государственной задачей. Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), профилактика рака шейки матки (РШМ) включает: первичную профилактику – вакцинацию против ВПЧ, вторичную – цитологический скрининг и лечение предраковых заболеваний шейки матки (ШМ) и третичную – лечение заболевания.
По данным GLOBOCAN, IARC (Международного Агентства по Исследованию Рака), в мире ежегодно у женщин фиксируется 570 000 случаев рака, связанного с ВПЧ [1]. ВПЧ-ассоциированные заболевания ШМ выявляются у большинства женщин: у 22 000 000 женщин выявляют CIN I, у 8 500 000 пациенток – CIN II–III.
В настоящее время плоскоклеточные интраэпителиальные поражения (LSIL), также известные как CIN I, признаны гистологическим диагнозом доброкачественной вирусной репликации, которая должна наблюдаться консервативно, в то время как CIN III признана истинным прединвазивным предшественником с высоким потенциалом прогрессирования в РШМ [2].
CIN II является неоднородной группой и включает поражения, которые могут являться как морфологическими проявлениями продуктивной ВПЧ-инфекции (LSIL), так и трансформирующей формы, приводящей к развитию предрака (HSIL) [2].
Классификация
В МКБ-10 термин «дисплазия шейки матки» (N87) подразумевает следующие нозологии:
- N87.0 Слабовыраженная дисплазия шейки матки (CIN I);
- N87.1 Умеренная дисплазия шейки матки (CIN II);
- N87.2 Резко выраженная дисплазия шейки матки, не классифицированная в других рубриках (исключена CIN III). CIN III была включена в раздел D06 Карцинома in situ шейки матки.
В 2018 г. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) представила обновленную международную классификацию болезней 11 пересмотра (International Classification of Diseases) – МКБ-11 (ICD-11), в которой пересмотрены некоторые принципы разделения CIN [2]. Термин цервикальная интраэпителиальная неоплазия (cervical intraepithelial neoplasia, CIN) остался без изменений, однако разделен в зависимости от степени тяжести и находится в разных рубриках. CIN I (2F31.00) включена в раздел «2F31.0 Немезенхимальное доброкачественное новообразование матки, тела матки», CIN II и CIN III – в раздел «2E66 Карцинома in situ шейки матки» [2].
CIN II (2E66.0) обладает повышенной восприимчивостью к инфицированию и описывается как «состояние шейки матки, вызванное хронической инфекцией, ассоциированной с вирусом папилломы человека (ВПЧ)», характеризуется предраковыми изменениями и соответствует умеренной дисплазии ШМ (⅔ площади плоского эпителия). CIN III (2E66.1) также ассоциируется с ВПЧ и характеризуется тяжелой дисплазией ШМ (более ⅔ площади плоского эпителия); включены: тяжелая дисплазия ШМ и карцинома in situ. Дисплазия шейки матки (GA15.7) отнесена в раздел «GA15 Приобретенные аномалии шейки матки».
Согласно классификации эпителиальных опухолей ШМ ВОЗ, 2014 [3] выделяют:
- плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой степени тяжести (LSIL), код по МКБ – 0 8077/0;
- плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокой степени (HSIL), включающие CIN II–III, код по МКБ – 0 8077/2.
В гистологической классификации LAST (Lower Anogenital Squamous Terminology) изменения тканей ШМ при предраках также структурированы как LSIL (соответствует CIN I) и HSIL (соответствует CIN II–III) [4]. CIN или дисплазия характеризуются нарушением дифференцировки клеток эпителия в результате пролиферации камбиальных элементов с развитием их атипии, утратой полярности и нарушением гистоструктуры. При CIN II базальные клетки с атипией занимают от ⅓ до ⅔ эпителиальной толщины. При CIN III диспластические клетки занимают более чем ⅔ толщины поверхностного эпителия.
Этиология
Основной причиной развития CIN II–III и инвазивного РШМ является ВПЧ. В настоящее время описано более 200 типов ВПЧ. В зависимости от типа ВПЧ обладает высоким или низким онкогенным потенциалом. Наиболее часто выявляемыми типами ВПЧ являются ВПЧ 16 и 18 типов. В 51% случаев относится к ВПЧ 16/18, в 63% – к ВПЧ 16/18/31/45 [5]. Факторами риска, существенно увеличивающими опасность инфицирования ВПЧ, являются ранний возраст начала половой жизни, три или более половых партнера, сопутствующие генитальные инфекции, курение, нарушение иммунитета [6].
Кофакторами развития CIN и РШМ на начальных этапах возникновения являются нарушение микробиоты влагалища и наличие инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Особая роль отводится Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma и Ureaplasma, которые поражают цервикальный канал и уретру [7]. Вирус простого герпеса (ВПГ) в сочетании с ВПЧ-инфекцией также повышает риск инвазивного РШМ [8].
Влагалищный дисбиоз в совокупности с онкогенными типами ВПЧ вызывает нарушение механизмов иммунологической защиты и, наряду с другими кофакторами канцерогенеза, способствует персистенции вируса. Кроме того, хронический цервицит активизирует продукцию неспецифических защитных антимикробных оксидов, способных вызывать повреждения ДНК хозяина.
Цитологический метод исследования
Цитологическое исследование ШМ (тест по Папаниколау (ПАП-тест) и жидкостная цитология) являются основой скрининга и профилактики РШМ. Чувствительность и специфичность метода традиционной цитологии остаются невысокими и зависят от информативности и качества полученного материала.
Эффективность ПАП-теста для поражений высокой степени находится в диапазоне 30–87%, чувствительность данного метода для диагностики LSIL составляет 76,9%, тогда как для HSIL – 66,6% [9]. В то же время чувствительность ПАП-теста в исследованиях Padmini C. и соавт. [10] была очень низкой – от 24,3 до 31,5%, что связано с высокой частотой сопутствующей патологии (цервицита, эрозии, гипертрофии ШМ у пациенток). Показатели чувствительности и специфичности метода традиционной цитологии, по данным ВОЗ, варьируют в пределах 40–86% и 62–98% соответственно.
При выявлении цитологического HSIL невозможно точно определить степень поражения – это может быть CIN II или CIN III. В цитологических препаратах, соответствующих CIN II, большинство клеток расположены разрозненно, способность их к дифференцировке нарушена в большей степени, увеличено ядерно-цитоплазматическое соотношение [9, 11]. В то же время при цитологических HSIL инвазивный РШМ может быть выявлен у 8% женщин при проведении гистерэктомии по поводу сочетанной патологии тела матки и у 7% женщин при проведении петлевых эксцизий по поводу CIN II [12].
Кольпоскопия в диагностике интраэпителиальных поражений шейки матки
Одним из информативных, неинвазивных и безопасных методов диагностики, определяющих аномальные кольпоскопические картины, является кольпоскопия. Согласно исследованиям, посвященным эффективности кольпоскопии, доказана низкая чувствительность/специфичность для LSIL – 69%, в то время как при HSIL она гораздо выше и составляет 82% [9, 13]. Показатель позитивного прогноза кольпоскопии в диагностике LSIL составляет 78%, в диагностике HSIL – >91%. Чувствительность обычной методики кольпоскопии для LSIL – 51%, для HSIL – 63% [2, 13]. Следует отметить, что кольпоскопические специфические признаки при CIN II отсутствуют. Кольпоскопия является методом субъективным, зависит от квалификации врача, выполняющего кольпоскопию, и не имеет четкой корреляции с гистологическим исследованием. Несомненным достоинством кольпоскопии является возможность проведения прицельной биопсии ШМ с дальнейшим гистологическим исследованием.
Биопсия шейки матки и гистологическое исследование
Золотым стандартом диагностики CIN и РШМ является гистологический метод, с помощью которого осуществляется верификация диагноза. В то же время Национальный институт рака в США инициировал исследование ASCUS-LSIL (ALTS) – многоцентровое рандомизированное клиническое исследование, предназначенное для оценки 3 альтернативных методов диагностики: кольпоскопия, цитологическое исследование и ВПЧ-типирование высокого канцерогенного риска (ВКР) [14]. При гистологическом заключении CIN II и пересмотре микропрепаратов несколькими специалистами патоморфологами интерпретации результатов различались. Поражения CIN II были подтверждены у 46% женщин, у 27% пациенток степень поражения была выше и соответствовала CIN III, а у 27% – степень поражения была снижена до CIN I [14].
Иммуногистохимические исследования
Иммуногистохимические (ИГХ) исследования проводятся для определения степени тяжести поражения. Чувствительность метода для определения CIN II и более варьирует в диапазоне 70–100%, специфичность составляет 34–100% [15].
Согласно LAST, при проведении гистологического исследования биоптатов рекомендовано выполнить ИГХ-исследование с определением p16 для подтверждения или опровержения диагноза HSIL, а также для дифференциального диагноза CIN I или CIN II. При обнаружении CIN II и р16-позитивные поражения ШМ классифицируются как HSIL, р16-негативные – как LSIL [9, 16, 17].
Течение интраэпителиальных поражений шейки матки
Согласно данным исследования Demarco M. и соавт. [18], CIN II и CIN III рассматриваются как предраковые поражения с высоким риском прогрессирования. При этом скорость регрессии, персистенции и прогрессирования отличаются для этих двух степеней поражения [19]. По данным ВОЗ, CIN II регрессирует чаще (43% против 32%), персистирует реже (35% против 56%) и прогрессирует до инвазивного рака (5% против 12%) [20] (табл. 1).

Таким образом, большая часть поражений CIN не приводит к РШМ, персистируя в предраковых стадиях или регрессируя. При выборе метода лечения надо брать во внимание молодой возраст женщины, и предпочтительно сохранение ее фертильности. В рандомизированном многоцентровом исследовании ALTS в течение 2 лет в группе консервативного наблюдения было на 40% меньше случаев рецидивирования CIN II [14].
В последние годы большинство проведенных проспективных исследований посвящены изучению течения CIN II у молодых женщин. Данные представлены в табл. 2.
При анализе полученных результатов выявлен высокий процент (60–73%) спонтанной регрессии CIN II у женщин моложе 25 лет [21–24].
В то же время следует отметить, что самый высокий риск чрезмерного лечения CIN II был у женщин в возрасте до 25 лет, так как частота встречаемости CIN II достигает пика именно в этой группе. Sasieni и соавт. в работе 2009 г. оценили риск развития РШМ менее чем на 1,5% в возрасте 25 лет у женщин с CIN II или III, диагностированным в возрасте до 25 лет, но без проведения лечения [25–30].
Учитывая риск акушерских осложнений у пациенток после применения эксцизионных методов лечения, таких как преждевременные роды [31], рекомендуется тактика консервативного наблюдения у молодых женщин до 25 лет с гистологически доказанным CIN II [12, 32–36].
Оправданность такой рекомендации у женщин моложе 25 лет была изучена в ретроспективном популяционном когортном исследовании пациенток в течение 4 лет. В 2015 г. проведено ретроспективное когортное исследование Willkinson и соавт., в котором изучали частоту возникновения рецидивов HSIL после различных методов лечения CIN II [32]. Исследование было направлено на определение частоты рецидивов среди молодых женщин с CIN в анамнезе, которые спонтанно регрессировали в течение 2 лет, в сравнении с женщинами с исходным диагнозом CIN I. Из 683 женщин, включенных в исследование, было 106 пациенток с CIN II со спонтанной регрессией, 299 пациенток с пролеченной CIN II и 278 пациенток с CIN I с консервативным вариантом ведения. Срок наблюдения составил 4 года. Не было значительного различия в риске развития выраженных нарушений через 2 года между группами со спонтанной регрессией CIN II и CIN I. Кроме того, CIN II, которая самопроизвольно регрессировала, имела схожую картину с CIN I. Среди пациенток со спонтанной регрессией риск возникновения CIN II составил 17%, CIN I – 12%, после эксцизии CIN II – 4%. Благодаря результатам исследования было установлено, что консервативное лечение представляется безопасным и оправданным подходом для женщин моложе 25 лет с CIN II [23, 32].
Тактика ведения пациенток с интраэпителиальными поражениями шейки матки
До 2006 г. всем пациенткам при выявлении CIN II применяли эксцизионные методы лечения, такие же, как при CIN II–III. Однако эксцизионные методы лечения (конизация холодным ножом, иссечение большой петли зоны трансформации (LLETZ) и лазерная конизация) увеличивают риск преждевременных родов, низкой массы при рождении у плода, преждевременного разрыва оболочек и перинатальной смертности при последующих беременностях [31, 33, 34].
В 2006 г. Американское сообщество по кольпоскопии и патологии ШМ опубликовало руководство по клинической практике, в котором было рекомендовано проведение повторного ПАП-теста вместо кольпоскопии для женщин до 21 года и повторной кольпоскопии вместо эксцизионных процедур для лечения умеренной дисплазии. Согласно этим рекомендациям, показано 6-месячное наблюдение с проведением кольпоскопии и цитологического исследования в течение 24 месяцев для HSIL с последующим удалением, если поражение все еще присутствует [12].
В исследовании, проведенном Perkins R.B. и соавт. в 2012 г., продемонстрировано, что благодаря этим рекомендациям уменьшилось использование петлевых электрохирургических процедур для лечения умеренной дисплазии (CIN II) у женщин в возрасте 18–23 лет с 55 до 18% [35].
В 2012 г. в рекомендациях Американского общества по кольпоскопии и патологии шейки матки также было предложено наблюдение длительностью 24 месяца [12]. В руководстве по клинической практике Общества акушеров-гинекологов Канады (SOGC) 2012 г. единогласно рекомендовано перейти от «немедленного» лечения к консервативному ведению молодых женщин с CIN II [36, 37].
Европейские стандарты качества лечения и наблюдения CIN сформулированы в национальной программе скрининга ШМ (NHSCSP-Colposcopy and Programme Management: Guidelines for the NHS Cervical Screening Programme, 2016) [13, 19]:
- при I типе зоны трансформации (ЗТ) и наличии CIN II эксцизия проводится на глубину 7 мм (95%) и 10 мм у женщин репродуктивного возраста;
- при II типе ЗТ и наличии CIN II эксцизия проводится на глубину 10 мм (95%) и 15 мм у женщин репродуктивного возраста.
При выполнении эксцизии обязательно учитываются внутренняя граница ЗТ (новый стык многослойного плоского и цилиндрического эпителиев) и глубина иссечения, особенно при лечении ЗТ 3-го типа. Степень термического повреждения при использовании высокочастотной радиоволновой хирургии 3,8–4,0 МГц в 3 раза меньше по сравнению с традиционным электрохирургическим воздействием и в 2–3 раза меньше по сравнению с большинством лазеров.
Согласно российским клиническим рекомендациям 2017 г., тактика лечения молодых женщин с LSIL, с доказанными в биоптате признаками ВПЧ-инфекции, койлоцитозом, CIN I, CIN II р16-негативные и с удовлетворительной кольпоскопией (ЗТ полностью визуализируется) выжидательная, с проведением цитологического исследования через 6, 12, 24 месяцев [38].
При сохранении повреждений более 18–24 месяцев показано деструктивное или эксцизионное лечение в зависимости от ЗТ. При сохранении CIN II в возрасте моложе 24 лет показана эксцизия. При HSIL (CIN II р16-позитивные, CIN III) показано хирургическое лечение – петлевая эксцизия (ПЭШМ) различной глубины от 7 мм и более, вплоть до конизации, в зависимости от типа ЗТ [38].
В 2018 г. в РФ был зарегистрирован новый лекарственный препарат «Цервикон-ДИМ» для проведения консервативной терапии дисплазии ШМ. Действующим активным компонентом является 3,3-дииндолилметан (ДИМ), который индуцирует апоптоз клеток, инфицированных ВПЧ, а также останавливает ВПЧ-обусловленную пролиферацию инфицированных эпителиальных клеток [39, 40].
Показано, что ДИМ ингибирует в трансформированных клетках активность ядерного фактора транскрипции NF-κB, опосредующего проведение провоспалительных сигналов [41]. ДИМ нормализует обмен эстрогенов, вызывая преимущественное образование антипролиферативного метаболита 2-OHE1 [41]. Кроме того, ДИМ деметилирует гены-онкосупрессоры опухолей женской репродуктивной системы, останавливая трансформацию ткани ШМ [42].
Были проведены многочисленные исследования эффективности препарата «Цервикон-ДИМ» у пациенток с диагнозом CIN I–II степени [42, 43]. Эффективность терапии препаратом «Цервикон-ДИМ» оценивали по результатам гистологического исследования биоптатов пораженных участков ШМ и по данным кольпоскопии. Согласно проведенным исследованиям, эффективность терапии препаратом «Цервикон-ДИМ» составила 90,5% [44].
Цервикон-ДИМ следует применять интравагинально по 100 мг 2 раза в сутки. Длительность курса лечения 3–6 месяцев. Продолжительность лечения определяется динамикой клинико-лабораторных показателей.
Профилактика
Основным методом профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний, в первую очередь цервикальных неоплазий РШМ, является вакцинация против ВПЧ. В России вакцины зарегистрированы и применяются с 2007 г. Квадривалентная вакцина защищает от РШМ, рака вульвы, рака влагалища, аногенитальных кондилом, цервикальной, анальной, вульварной и вагинальной интраэпителиальных неоплазий и аденокарциномы in situ [45, 46]. Рекомендована девочкам и женщинам в возрасте от 9 до 45 лет [45, 46]. По данным клинических исследований [45, 46], эффективность четырехвалентной вакцины против ВПЧ у женщин в возрасте 16–26 лет в отношении профилактики РШМ, CIN, VIN, VaIN и аногенитальных поражений составила от 98 до 100%. У женщин 24–45 лет профилактика CIN различной степени тяжести и аногенитальных поражений, вызванных вакцинными штаммами, составила 88,7%. Было проведено 10 популяционных исследований по оценке эффективности четырехвалентной вакцины в профилактике аногенитальных поражений в 8 странах (Новая Зеландия, США, Канада, Швеция, Австрия, Дания, Англия и Германия).
В 2012 г. Joura и соавт. опубликовали данные анализа большого рандомизированного исследования III фазы, включающего более 17 600 женщин и 1350 конизаций; в исследовании участвовали 587 женщин, которых вакцинировали, и 763 пациентки из группы «плацебо». Частота возникновения рецидивов в группе вакцинации и плацебо очень различалась. Вакцинация была связана со значительным снижением риска любого последующего высокодифференцированного заболевания ШМ на 64,9% [47]. В 2013 г. Kang и соавт. [48] опубликовали ретроспективный анализ данных, оценивающих влияние вакцинации против ВПЧ у пациентов после конизации ШМ по поводу CIN II–III. Количество рецидивов заболевания было достоверно меньше у вакцинированных пациенток: 2,5% пациенток в группе вакцинации против 7,2% пациенток в контрольной группе. Это привело к уменьшению частоты рецидива заболевания на 65%.
Для оценки клинической эффективности вакцинации против ВПЧ после хирургического лечения (ПЭШМ) у женщин с CIN II+ и микроинвазивным РШМ (FIGO A1) также в 2013 г. было проведено клиническое исследование SPERANZA [49]. Данный проект является единственным проспективным с опубликованным результатом оценки клинической эффективности вакцины против ВПЧ в снижении рецидивов заболевания после лечения CIN II и микроинвазивного РШМ (стадия IA1 FIGO). Проводились ВПЧ-типирование, жидкостная цитология, кольпоскопическое исследование в течение 4 лет. В исследовании участвовали 536 вакцинированных пациенток и 344 женщины контрольной группы. Рецидив заболевания развился у 6,4% пациенток контрольной группы и у 1,2% вакцинированных женщин. Клиническая эффективность через 4 года после хирургического лечения, независимо от типа ВПЧ, составила 81,2%.
Заключение
Таким образом, представленные исследования свидетельствуют о том, что при ведении пациенток с CIN II обязательно необходимо учитывать их возраст. В связи с высокой частотой возможной регрессии CIN II, ИГХ-исследование с определением p16 является необходимым для определения степени тяжести поражения и выбора метода лечения. У женщин моложе 25 лет с CIN II допустимо консервативное наблюдение с медикаментозной терапией в течение 2 лет. Консервативное лечение с применением «Цервикон ДИМ» представляется безопасным и оправданным подходом для молодых женщин с CIN I–II. При отсутствии регресса CIN II в течение 18–24 месяцев у женщин моложе 25 лет показано применение эксцизионных методов лечения. Вакцинация против ВПЧ у пациенток после применения эксцизионных методик позволяет профилактировать новое инфицирование ВПЧ и предотвращает развитие рецидивов CIN.