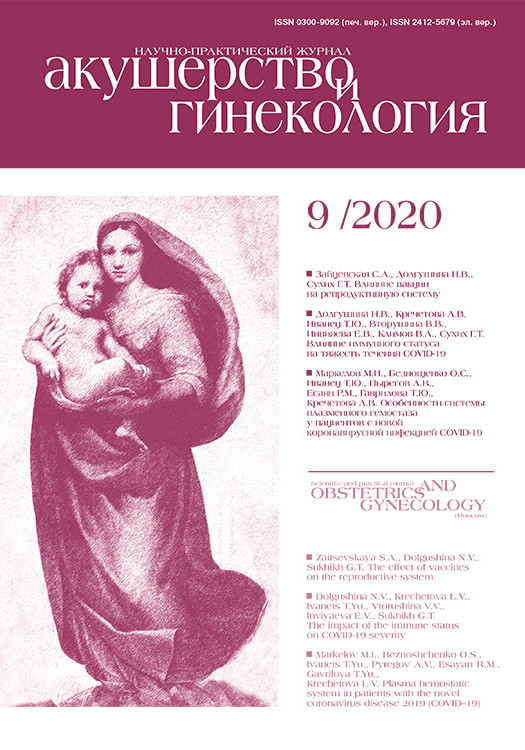В конце 2019 г. в КНР произошла вспышка заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. 11.02.2020 г. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название COVID-19 (Coronavirus disease 2019), а международный комитет по таксономии вирусов присвоил официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2. До сих пор сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении этого заболевания весьма ограничены и противоречивы.
К настоящему времени накопилось достаточно данных, свидетельствующих о том, что заболевание, вызванное SARS-CoV-2, протекает в различных формах - от бессимптомного течения до тяжелых форм, сопровождающихся развитием двусторонней пневмонии, полиорганной недостаточностью и сепсисом [1]. При этом активно изучаются причины и предикторы, влияющие на развитие различных форм COVID-19 [2–4]. Значимую роль в развитии тяжелых форм заболевания играет иммунный ответ на вирусную инфекцию [5, 6]. Есть предварительные данные о прямой связи между тяжестью перенесенной инфекции и напряженностью развивающегося гуморального иммунитета, а также с развитием «цитокинового шторма» и системной воспалительной реакции [6].
В связи с этим изучение предикторов, причин, и сопутствующих факторов, влияющих на тяжесть развития инфекции, играет важную роль для понимания патогенеза развития тяжелых форм заболевания и разработки методов терапии и профилактики данных осложнений.
Целью исследования было оценить влияние иммунного статуса больных на тяжесть течения COVID-19.
Материалы и методы
В проспективное исследование были включены 63 сотрудника ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ, заболевшие COVID-19. Критериями включения явились подтверждение диагноза COVID-19, возраст 18+ лет, подписанное информированное добровольное согласие на включение в исследование и возможность проведения забора крови через 3–7 дней и 20+ дней от старта заболевания (появление клинических симптомов или положительный тест на SARS-CoV-2). Критериями исключения были ВИЧ-инфекция и другие врожденные и приобретенные иммунодефициты, любые хронические инфекционные, онкологические, аутоиммунные и ревматические заболевания, период беременности и лактации для женщин, прием иммуномодулирующих препаратов в течение не менее 3 месяцев до старта болезни и во время болезни.
В зависимости от тяжести заболевания сотрудники были стратифицированы на 3 группы: группа 1 – 17 человек с бессимптомной формой болезни, группа 2 – 29 человек с легкой формой болезни, группа 3 – 17 человек со среднетяжелой формой COVID-19.
Критериями бессимптомной формы болезни было выявление РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в мазке из ротоглотки при отсутствии каких-либо клинических проявлений заболевания. Критериями легкой формы COVID-19 было выявление РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в мазке из ротоглотки в сочетании со следующими клиническими проявлениями: температура не выше субфебрильной (<38°С) и отсутствие критериев тяжелого и среднетяжелого течения инфекции. Критериями среднетяжелой формы заболевания было выявление РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в мазке из ротоглотки в сочетании с каким-либо из следующих клинических проявлений: температура выше субфебрильной (≥38°С), одышка при физических нагрузках, наличие пневмонии по данным КТ с минимальным или средним объемом поражения легких (КТ 1–2) [7].
Идентификация вируса проводилась с помощью «Набора реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 и подобных SARS-CoV методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (SARS-CoV-2/SARS-CoV)» (ООО НПО «ДНК-Технология», Россия). В качестве мишеней были выбраны три участка генома: специфичные для коронавируса ЅАRЅ-СоV-2 участки гена N и гена Е, а также консервативный участок гена Е, общий для группы коронавирусов подобных ЅАRЅ-СоV (включая ЅАRЅ-СоV и ЅАRЅ-СоV-2). Амплификацию проводили на приборе «ДТ-964» (ООО НПО «ДНК-Технология», Россия). Обработка результатов осуществлялась автоматически с помощью программного обеспечения к прибору.
На 3–7 сутки от начала заболевания производился забор крови из периферической вены и оценка уровня антител IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке крови и параметров иммунограммы с оценкой общего числа лимфоцитов, с анализом субпопуляционного состава лимфоцитов: CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+, CD3-CD56+CD16+, CD3+CD56+CD16+, CD19+CD5+, Treg, с расчетом соотношения Т-лимфоцитов с цитотоксической и хелперной функцией (CD8+/CD4+), с оценкой содержания в периферической крови активированных лимфоцитов (CD3+HLA-DR+, CD3+CD25+, CD25+), а также фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) с расчетом индекса стимуляции (ИС). Через 20+ дней от начала заболевания проводился повторный анализ крови для оценки уровня антител IgG к SARS-CoV-2.
Определение антител к SARS-CoV-2 класса IgG в сыворотке крови осуществлялось наборами реагентов для твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) в сыворотке (плазме) крови «SARS-CoV-2-IgG-ИФА» производства ФГБУ «НМИЦ гематологии» МЗ РФ. Учет результатов осуществляли на планшетном ридере Infinite F50 (фирмы Tekan, Австрия). Согласно инструкции компании-производителя, тест предназначен для качественного и полуколичественного определения антител, для интерпретации результата используется индекс позитивности (ИП), который рассчитывается по формуле: ИП = ОП образца/Cut-off, где ОП образца – величина оптической плотности образца. При ИП>1,1 – образец положительный, при ИП <0,9 – образец отрицательный. При значении ИП, лежащем в промежутке от 0,9 до 1,1, результат сомнительный (неопределенный). Образцы с сомнительным результатом были повторно протестированы через 1–2 дня из другой порции крови.
Фенотипирование лимфоцитов периферической крови осуществлялось методом проточной цитометрии с помощью моноклональных антител (мАт), меченных FITC или PE, против антигенов CD3(FITC), CD4(PE), CD5(PE), CD8(PE), CD16(PE), CD19(FITC), CD56(PE), CD25(FITC), HLA-DR(FITC) (Becton Dickinson и eBioscience, США). Оценивалось содержание основных субпопуляций иммунокомпетентных T клеток (СD3+, CD4+, CD8+), В-клеток (CD19+), B1-клеток (CD19+CD5+), NK-клеток (СD56+СD16+). Лимфоцитарный гейт, позволяющий исключить из анализа другие клетки крови, выявлялся с помощью мАт к СD45, меченных перидинин хлорофилл протеином (PerCP), (Dako, Дания). Для оценки позитивно окрашенных субпопуляций использовались соответствующие FITC или PE-меченые изотипические IgG.
Трег клетки с внутриклеточной экспрессией FOXP3 в цельной крови определялись как субпопуляция с фенотипом СD4+CD25highCD127low/-, с использованием сочетания мАт к антигенам CD4, меченных PerCP (eBioscience, США), CD25, меченных FITC (Becton Dickinson, США) и СD127, меченных РЕ (eBioscience, США). Оценивалась доля Трег среди CD4+-клеток. Моноклональные антитела добавлялись непосредственно к цельной крови, затем лизировались с помощью раствора FACS Lysing Solution (Becton Dickinson, США).
ФАН оценивали с помощью метода FagoFlow (фирмы ExBio, Чехия). Тест основан на оценке окислительного взрыва в гранулоцитах после стимуляции E.Coli. Отношение средней интенсивности флуоресценции (СИФ) активированных гранулоцитов стимулированных образцов и отрицательных контролей отражает интенсивность окислительного взрыва гранулоцитов после стимуляции Е. coli и обозначается как индекс стимуляции (ИС).
Фенотипирование лимфоцитов, и оценка ФАН выполнялись на проточном цитофлуориметре Gallios (Beckman Coulter, США) с использованием программы Kaluza.
Статистический анализ
Для статистического анализа использовался пакет статистических программ Statistica 10 (США). Соответствие расчетных выборок показателей нормальному распределению оценивали с помощью критерия Шапиро–Уилка: все непрерывные данные в подгруппах имели нормальное распределение и представлены в виде среднее арифметическое ± стандартное отклонение (M±SD). Статистический анализ проводился с применением χ2-теста для сравнения категориальных переменных, теста ANOVA для сравнения средних величин в 3 группах и t-test для сравнения средних величин в 2 группах. Для оценки связи выявленных предикторов с различными формами течения COVID-19 использовался многофакторный анализ (логистическая регрессия) с процедурой последовательного включения предикторов в модель (Forward selection). Различия между статистическими величинами считали статистически значимыми при уровне р<0,05.
Исследование было одобрено комиссией по этике ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.
Результаты
Пол и средний возраст сотрудников статистически значимо не различались в группах сравнения (р> 0,05), хотя отмечался тренд в сторону большей частоты лиц мужского пола и лиц более старшего возраста в группах с клинически значимыми формами COVID-19. Индекс массы тела (ИМТ) был выше в группе сотрудников с более тяжелыми формами заболевания (р=0,0028). Среди заболевших преобладали лица со А(II) группой крови – 36 человек (57,1%). Также лиц с А(II) группой крови было больше в группах с клиническими проявлениями инфекции, а лиц с 0(I) группой крови было статистически значимо больше в группе с бессимптомной формой инфекции (р=0,0370). Распространенность различных заболеваний у сотрудников в целом была низкая и не отличалась значимо в группах сравнения (табл. 1).

Длительность клинических проявлений заболевания, в среднем, составила (11,5±7,4) дней (от 3 до 30 дней). При этом длительность клинических проявлений в группе 2 составила (9,8±6,7) дней, а в группе 3 – (14,5±7,9) дней (р=0,0397). Среди клинических проявлений преобладали (в порядке убывания): снижение обоняния – у 36 (78,3%), лихорадка – у 34 (73,9%), головная боль – у 31 (67,4%), общая слабость – у 30 (65,2%), миалгия – у 21 (45,6%) и кашель – у 19 (41,3%) из 46 человек с клиническими проявлениями заболевания. Пневмония по данным компьютерной томографии (КТ-1 или КТ-2) была диагностирована у 12 сотрудников. Все сотрудники с клиническими проявлениями COVID-19 находились на амбулаторном лечении и получали тот или иной вид терапии. Наиболее часто назначались антибиотики широкого спектра действия – 32-м из 46 человек (69,5%) и препараты низкомолекулярных гепаринов (НМГ) в профилактических дозировках – 17 из 46 человек (36,9%).
Через 3–7 дней от начала заболевания сероконверсия (появление антител) наблюдалось лишь у 14 человек (22,2%), тогда как через 20+ дней от начала заболевания антитела были выявлены уже у 48 человек (76,2%). При этом у сотрудников со среднетяжелой формой заболевания антитела были выявлены в 100% наблюдений в отличие от групп 1 и 2 (70,6% и 65,5%), а их уровень был значимо выше (р=0,0192) (табл. 2, рис. 1).

При оценке параметров клинического и биохимического анализа крови на 3–5-й день заболевания было выявлено, что сотрудники со среднетяжелой формой COVID-19 (группа 3) имели более низкий уровень лейкоцитов и лимфоцитов, и более высокий относительный уровень моноцитов и С-реактивного белка (СРБ) (р<0,05). Параметры биохимического анализа крови значимо не отличались между группами (табл. 3, рис. 2).
 При анализе параметров иммунограммы на 3–5-й день заболевания было выявлено, что у сотрудников со среднетяжелой формой COVID-19 (группа 3) определялось более низкое абсолютное число CD3+, CD3+CD8+, СD19+, CD19+CD5+, ФАН и ИС (табл. 4, рис. 3).
При анализе параметров иммунограммы на 3–5-й день заболевания было выявлено, что у сотрудников со среднетяжелой формой COVID-19 (группа 3) определялось более низкое абсолютное число CD3+, CD3+CD8+, СD19+, CD19+CD5+, ФАН и ИС (табл. 4, рис. 3).
Вероятность развития более тяжелой формы COVID-19 в зависимости от исследованных клинико-лабораторных данных была рассчитана с использованием многофакторного анализа. В модель прогноза были включены факторы, показавшие статистическую значимость при построении многофакторной модели: ИМТ, абсолютное число лейкоцитов, абсолютное число лимфоцитов и ФАН:

где Р(COVID) – вероятность развития более тяжелой формы COVID-19; Exp – экспонента; ИМТ – индекс массы тела; Лейк – абсолютное число лейкоцитов в сыворотке крови (×109/л); Лимф – абсолютное число лимфоцитов в сыворотке крови (×109/л); ФАН – фагоцитарная активность нейтрофилов.
Таким образом более высокий ИМТ, более низкое абсолютное содержание лейкоцитов и лимфоцитов, а также низкий уровень ФАН предрасполагают к развитию более тяжелой формы COVID-19.

Обсуждение
Было выявлено, что на развитие более тяжелых форм инфекции SARS-CoV-2 оказывали влияние более высокий ИМТ (р=0,0028) и группа крови (р=0,0370). Сотрудники со А(II) группой крови чаще развивали более тяжелую форму заболевания, тогда как сотрудники с 0(I) группой крови чаще имели бессимптомное течение болезни. Наши данные согласуются с данными Zhao J. et al. и другими исследователями, которые проанализировав большую когорту больных COVID-19 (2173 человека) также выявили повышенную заболеваемость у лиц со АВ фенотипом крови и низкую заболеваемость у людей с 0(I) группой крови [3, 8]. Объяснением этому может быть влияние АВ0 антигенов на иммунную систему и распространение патогенов под влиянием защитных антител и системы комплимента [9]. Было высказано предложение о том, что некоторые вирусы способны связываться с АВ0-антигенами и, таким образом, распространяться в организме человека [10], в том числе SARS [11]. Guillon P. et al., используя математическую клеточную модель, высказали предположение, что у людей с 0(I) группой крови защитную противовирусную функцию оказывают антигрупповые антитела [12].
Что касается ИМТ, то уже были получены доказательства того, что избыточная масса тела и ожирение в 2,3 раза увеличивают шансы развития тяжелых форм инфекции, о чем свидетельствуют данные мета-анализа [13]. Это связано с частым сочетанием ожирения и соматических, эндокринных и других заболеваний, метаболических расстройств и иммунных нарушений. Мы не получили статистически значимой разницы в числе лиц мужского пола и более старшего возраста в группе с более тяжелой формой заболевания, хотя такой тренд имел место быть. Мужской пол и старший возраст наравне с ожирением являются доказанными факторами риска развития тяжелых форм инфекции [1, 2]. Отсутствие значимой разницы по полу и возрасту в нашем исследовании связано с небольшим числом мужчин и относительно молодым возрастом включенных в исследование сотрудников. Это же касается и заболеваемости сотрудников, которая не различалась значимо между группами в виду низкой распространенности каких-либо заболеваний в исследуемой когорте.
При анализе наличия и уровня специфических противовирусных антител было выявлено, что через более чем 20 дней от начала заболевания антитела IgG были выявлены у большинства сотрудников, причем развитие и напряженность противовирусного иммунитета была связана с тяжестью заболевания. Сероконверсия наблюдалась в 100% случаев при среднетяжелой форме инфекции и лишь у 2/3 сотрудников с легкой и бессимптомной формой инфекции (р=0,0243). Полученные данные соответствуют литературным данным, согласно которым у большинства пациентов наблюдается сероконверсия в течение первых 3-х недель заболевания, причем сероконверсия IgM и IgG происходит одновременно и достигает пика на 2–3-й неделе заболевания [14]. Также было показано, что у пациентов с более легкими формами заболевания уровень антител был ниже по сравнению с пациентами с более тяжелыми формами болезни [15]. Следует ответить, что мы не нашли данных литературы о выраженности противовирусного иммунитета у лиц с бессимптомными формами инфекции. Многочисленные литературные источники свидетельствуют о наличии такового лишь у больных c клиническими проявлениями COVID-19. Таким образом, наше исследование является одним из первых, в котором продемонстрировано наличие сероконверсии при бессимптомной форме инфекции SARS-CoV-2, и показано, что напряженность специфического противовирусного иммунитета при отсутствии симптомов не отличается от такового при легкой форме заболевания.
Также наше исследование показало, что люди, у которых развивается более тяжелая форма инфекции, при дебюте болезни имеют более низкий абсолютный уровень лейкоцитов и лимфоцитов, и более высокий относительный уровень моноцитов и СРБ (р<0,05). Наши данные не согласуются с данными некоторых исследователей, которые показали, что при более тяжелых формах инфекции отмечался более высокий уровень лейкоцитов и более низкий уровень моноцитов [16, 17]. При этом, по данным других исследований, развитие COVID-19 ассоциировано с более низким уровнем лейкоцитов и лимфоцитов по сравнению с SARS-CoV-2негативными пациентами [18. Такое различие в данных, вероятно, связано с различными дизайнами исследований. Логично, что при манифестации развернутых форм заболевания меняется картина крови в сторону воспалительных изменений (лейкоцитоз, нейтрофилия, относительная лимфопения, палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы), что показано в поперечных исследованиях. При анализе крови до манифестации клинической картины заболевания (продольные исследования) характерен более низкий уровень иммунных клеток, что предрасполагает к развитию более тяжелых форм заболевания. При этом выявленный в нашем исследовании более высокий относительный уровень моноцитов и СРБ в группе с более тяжелой формой инфекции может отражать защитный ответ организма на вирусную инвазию вследствие уже развивающегося заболевания (3–7-й день от начала болезни).
Параметры иммунограммы, оцененные на 3–5-й день заболевания, подтвердили, что для лиц с развитием в последующем более тяжелой формы болезни характерно более низкое содержание иммунных клеток (CD3+, CD3+CD8+, СD19+, CD19+CD5+).
Аналогичные данные были получены в исследовании Xu B. et al., согласно которому у людей с тяжелыми формами заболевания отмечалось значимое снижение всех фракций Т- и В-лимфоцитов [20]. В исследованиях Chihuan Q. et al., Jin-Wen S. et al. также подтверждается наличие лимфопении у пациентов с тяжелыми формами COVID-19, обусловленной дефицитом всех основных субпопуляций иммунных клеток, и обсуждается развитие у таких больных дисрегуляции иммунного ответа, которую связывают c нерегулируемой активацией CD3+CD8+-клеток [21, 22]. В представленной нами работе показана тенденция у больных со среднетяжелой формой к COVID-19 к развитию подобных процессов в иммунной системе. Интересной находкой мы считаем значимое снижение фагоцитарной активности нейтрофилов у лиц, которые впоследствии развили тяжелую форму COVID-19, причем снижена не только продукция нейтрофилами активных форм кислорода (окислительный взрыв), но и интенсивность их продукции, отраженная в индексе стимуляции (ИС). Фагоцитарная активность нейтрофилов отражает способность указанных микрофагов крови (одних из основных клеток, способных к фагоцитозу) к поглощению любых патогенных агентов (бактерий, вирусов, пораженных клеток). Снижение данного показателя может наблюдаться при хронических инфекционных заболеваниях, иммунодефицитах, новообразованиях, применении иммунодепрессантов (исключено в нашем исследовании), а также при врожденных дефектах фагоцитарной системы, мальабсорбции, недостаточности питания и др. В базе данных https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov на сегодняшний день имеются единичные публикации, в которых анализируется связь ФАН и COVID-19 [23]. Очевидно, что снижение активности врожденного иммунитета в виде нарушения фагоцитоза нейтрофилами патогенов может негативно влиять на развитие любого инфекционного и воспалительного процесса, в том числе вызванного SARS-CoV-2.
На заключительном этапе, нами была предложена модель прогноза, в которую были включены факторы, показавшие статистическую значимость при построении многофакторной модели, а именно ИМТ, абсолютное число лейкоцитов, абсолютное число лимфоцитов и ФАН. Данная модель может быть использована для прогноза развития более тяжелой формы COVID-19.
Заключение
Выявленные клинико-лабораторные отличия между различными клиническими формами COVID-19, в том числе параметры иммунограммы, могут быть предикторами развития тяжелых форм инфекции и использоваться в клинической практике для прогноза развития заболевания.