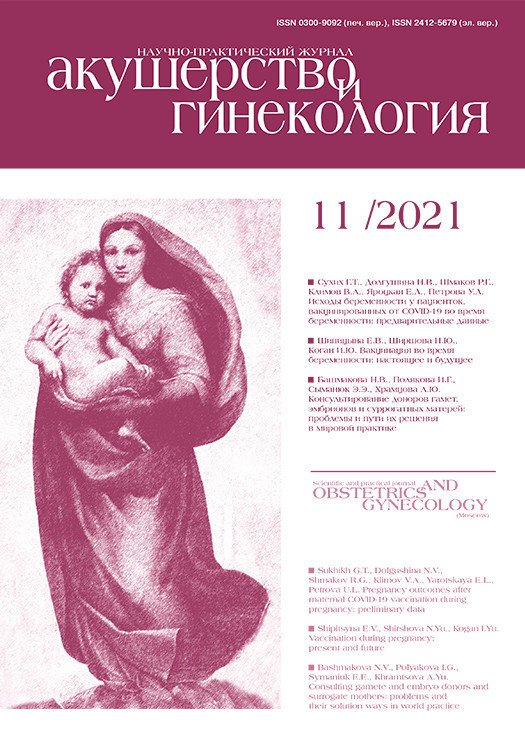Ключевым фактором успеха в циклах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) является функциональная и морфологическая зрелость гамет. В экспериментах на животных было показано, что качество ооцита играет более важную роль, чем характеристики сперматозоида [1, 2]. Компетентность ооцитов, их способность к оплодотворению и дальнейшее раннее развитие эмбриона определяется синхронностью созревания ядра и цитоплазмы. Нарушение или асинхронность данного процесса может приводить к появлению тех или иных морфологических аномалий строения ооцитов, распространенность которых в циклах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) достигает 50% [3]. Общепринято различать экстрацитоплазматические и цитоплазматические аномалии строения яйцеклеток, называемые дисморфизмами. К цитоплазматическим дисморфизмам ооцитов относятся центральная гранулярность цитоплазмы, вакуоли, аномальные агрегаты гладкого эндоплазматического ретикулума (ГЭР), а также темная или агомогенная цитоплазма. Ряд исследователей считают, что ооциты с данными видами дисморфизмов имеют низкую частоту оплодотворения, а эмбрионы, полученные из таких клеток, обладают низким потенциалом к имплантации и дальнейшему развитию [4–6]. Экстрацитоплазматические дисморфизмы – это изменение ширины и наличие гранулярности в перивителлиновом пространстве, изменение формы или толщины блестящей оболочки, а также аномалия строения первого полярного тельца. Экспертами Стамбульского консенсуса по оценке ооцитов и эмбрионов было показано, что экстрацитоплазматические аномалии следует рассматривать как фенотипические отклонения (вариации), а некоторые из них – как индикатор старения ооцитов [7]. Остается спорным вопрос о негативном влиянии данных видов дисморфизмов на частоту оплодотворения и развитие эмбриона [4, 5, 8, 9].
В литературе обсуждается роль возраста женщины, а также некоторых гинекологических заболеваний и метаболических нарушений в появлении морфологических аномалий ооцитов [10]. Кроме этого, ряд исследователей в качестве фактора риска возникновения дисморфизмов рассматривают длительность овариальной стимуляции и суммарной дозы гонадотропинов [4, 11–13]. Однако не существует единой точки зрения относительно влияния перечисленных факторов на морфологию яйцеклеток. Следует сказать, что остаются неизученными морфологические характеристики ооцитов у пациенток, принимающих гонадотоксичные препараты. Так, среди хронических инфекционных заболеваний особое место занимает ВИЧ-инфекция. По данным объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), в 2020 г. в мире насчитывалось 38,0 (31,6–44,5) млн людей, живущих с ВИЧ, из них на конец июня 2020 г. 26,0 (25,1–26,2) млн. получали антиретровирусную терапию (АРТ). Следует сказать, что современная АРТ позволяет перевести заболевание в разряд хронической контролируемой патологии, сохранить качество и продолжительность жизни людям с ВИЧ-инфекцией [14]. Однако в литературе обсуждается негативное влияние на качество ооцитов как тяжелого иммунодефицита, связанного с ВИЧ-инфекцией, так и АРТ. В ряде работ было показано, что при использовании нуклеозидных и нуклеотидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ) в ооцитах и кумулюсных клетках у пациенток с ВИЧ-инфекцией наблюдается истощение митохондриальной ДНК (мтДНК), увеличение частоты ее мутаций [15–17]. Именно с этим авторы связывают снижение способности ооцитов к оплодотворению и низкую эффективность программы ЭКО в данной группе больных. Однако сведения об исследованиях по изучению морфологических характеристик ооцитов у ВИЧ-инфицированных женщин, принимающих АРТ, в научной литературе отсутствуют. Данный аспект представляет научный интерес в связи с увеличением числа женщин репродуктивного возраста, инфицированных ВИЧ и планирующих беременность с использованием ВРТ.
Цель исследования: изучить распространенность дисморфизмов ооцитов у ВИЧ-инфицированных женщин, принимающих АРТ.
Материалы и методы
В ретроспективное исследование включены 210 супружеских пар, обратившихся для проведения программы ЭКО. Основную группу составили 113 пациенток с ВИЧ-инфекцией, контрольную – 97 женщин без ВИЧ-инфекции, которым выполнено 163 и 123 стимулированных цикла соответственно. Проведена морфологическая оценка 2321 зрелых ооцитов (MII), из них 1228 – полученных в основной группе и 1093 – в группе контроля. Критерии включения в основную группу: ВИЧ-положительный статус у женщины, в контрольную – отсутствие ВИЧ-инфекции. Критерии невключения в обеих группах: наличие противопоказаний к проведению ВРТ (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» от 31.07.20).
Стимуляцию суперовуляции проводили в протоколах с антагонистами гонадотропин-рилизинг-гормона (ант-ГнРГ) с использованием препаратов рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (рФСГ). При достижении фолликулами диаметра 14–15 мм для предотвращения паразитарного пика эндогенного лютеинизирующего гормона начиналось введение препарата ант-ГнРГ в дозе 0,25 мг/сут подкожно до дня введения триггера овуляции. В качестве триггера овуляции при визуализации 3 фолликула и более ≥17 мм в диаметре использовали хорионический гонадотропин человека в дозе 10 000 МЕ или 0,2 мг агониста ГнРГ. Аспирацию ооцитов осуществляли через 35–36 часов после введения триггера овуляции. Далее в полученной фолликулярной жидкости проводили поиск ооцит-кумулюсных комплексов (ОКК), которые затем в стерильных планшетах с культуральной средой для оплодотворения (G-IVF, VitroLife) помещали в инкубатор при температуре 37,2°С и СО2 6,5%. Через 2–3 ч выполняли механическое и ферментативное удаление (денудирование) клеток кумулюса из ОКК. Затем проводилась процедура ИКСИ, во время которой оценивали степень зрелости клеток, их морфологические характеристики и выявление дисморфизмов. Центральную гранулярность определяли при наличии темной губчатой зернистой области в цитоплазме ооцита; вакуоли представляли собой цитоплазматические включения, содержащие жидкость и окруженные мембраной. Аномальные агрегаты ГЭР – это круглые полупрозрачные образования в центральной части ооцита. Темный цвет цитоплазмы – значительное изменение цвета всей цитоплазмы ооцита. К экстрацитоплазматическим дисморфизмам относили изменение ширины перивителлинового пространства и наличие в нем гранулярности, аномалии первого полярного тельца, а также деформацию или утолщение зоны пеллюцида ооцита.
Статистический анализ
Статистическая обработка данных выполнена с использованием программы IPM SРSS Statistics, версия 26. Результаты представлены в виде медианы и квартилей (Ме (Q1;Q3)), а для оценки различий в группах применяли методы непараметрической статистики (тест Манна–Уитни). Для сравнения категориальных данных, а также для оценки значимых различий между ними использовали тест χ2. Оценивали отношение шансов (ОШ) и 95% доверительный интервал (ДИ). Различия считали статистически значимыми при уровне достоверности p<0,05.
Результаты
Медиана возраста у пациенток с ВИЧ-инфекцией составляла 34 года (31;37 лет). Длительность заболевания и продолжительность АРТ – 8 (5;11) и 3,6 (2;6) года соответственно. У 65 из 113 женщин (57,5%; 95% ДИ 47,8–66,4) была 3-я субклиническая стадия заболевания, у 43 (38,1%; 95% ДИ 29,2–47,8) – 4А стадия, у 2 (1,8%; 95% ДИ 0–4,4) – 4Б и у 3 (2,7%; 95% ДИ 0–6,2) – 4В стадия ВИЧ-инфекции. На момент включения в исследование у всех женщин с 4-й стадией ВИЧ-инфекции имела место фаза ремиссии на фоне АРТ. Медиана уровня CD4+лимфоцитов составила 582 (432;807) мкл в 1 кл., CD8+лимфоцитов – 740 (611;982) мкл в 1 кл., а значение иммунорегуляторного индекса – 0,87. Все пациентки получали АРТ и имели неопределяемую вирусную нагрузку в крови перед проведением программы ЭКО. У каждой третьей женщины (30,1%; 95% ДИ 21,2–38,9) были выявлены антитела к гепатиту С. В таблице 1 представлена клиническая характеристика пациентов, включенных в данное исследование.

Пациентки обеих групп были сопоставимы по возрасту (34 (31;37) и 33 (30;36) года; р=0,079), индексу массы тела (22,5 (20;24,9) и 22 (21;24,5) кг/м2; р=0,875) и факторам бесплодия, которое в исследуемых группах чаще было обусловлено трубно-перитонеальным генезом. Следует отметить, что у ВИЧ-инфицированных пациенток в сравнении с группой контроля наблюдались значимо более низкие уровни антимюллерова гормона (АМГ) (1,58 (0,8;3,1) и 2,8 (1,9;5,7) нг/мл соответственно; р=0,001). Как результат, при проведении овариальной стимуляции в основной группе пациенток была использована большая суммарная доза гонадотропинов (2250 (1875;2700) и 1950 (1650;2250) МЕ соответственно; р=0,001), получено существенно меньшее количество ооцитов (8 (4;14) и 10 (7;15) соответственно; р=0,010) (табл. 1). При этом длительность стимуляции (10 (9;10) и 10 (9;10) дней соответственно; р=0,948) и число зрелых ооцитов MII (7 (3;10,5) и 8 (6;12) соответственно; р=0,14) были сопоставимы между группами.
Далее проведена оценка морфологических характеристик зрелых ооцитов. Распространенность различных видов дисморфизмов ооцитов у ВИЧ-инфицированных женщин была существенно выше, чем у пациенток контрольной группы, и составила 29,5% (362/1228) и 14,1% (154/1093) соответственно (р<0,001; ОШ 2,092; 95% ДИ 1,765–2,480).
Как видно из представленных в таблице 2 данных, цитоплазматические аномалии строения ооцитов статистически значимо чаще встречались в основной группе исследования в сравнении с группой контроля (26,3 и 11,7% соответственно; р<0,001; ОШ 2,26; 95% ДИ 1,8–2,7). Наиболее распространенной формой цитоплазматических дисморфизмов ооцитов в исследуемой выборке была центральная гранулярность цитоплазмы. Частота выявления данной аномалии строения яйцеклеток в основной группе составила 17,3% (213/1229), в группе контроля – 10% (109/1093), при этом различия были статистически значимы (р<0,001; ОШ 2,26; 95% ДИ 1,8–2,7). В ооцитах ВИЧ-инфицированных пациенток существенно чаще, чем в группе контроля, наблюдались вакуоли (1,4 и 0,3% соответственно; р=0,004; ОШ 5,044; 95% ДИ 1,482–17,164) и агомогенная цитоплазма (7 и 1,7% соответственно; р<0,001; ОШ 4,029; 95% ДИ 2,468–6,577), а темная цитоплазма ооцитов встречалась одинаково часто в обеих группах (1,1 и 0,5% соответственно; р=0,174; ОШ 1,9; 95% ДИ 0,736–5,056). Обращает внимание, что аномальные агрегаты ГЭР определялись только в ооцитах ВИЧ-инфицированных женщин (1,3%, 16/1228).
Частота встречаемости экстрацитоплазматических аномалий строения ооцитов, а также сочетание форм у ВИЧ-инфицированных пациенток была сопоставима с ВИЧ-серонегативным контролем. При этом в основной группе исследования статистически значимо чаще наблюдалась гранулярность в перивителлиновом пространстве (6,2% (75/1228) и 3,4% (37/1093) соответственно; р=0,002; ОШ 1,798; 95% ДИ 1,223–2,642), а в группе контроля – изменение ширины перивителлинового пространства (1,4% (17/1228) и 3% (32/1093) соответственно; р=0,009; ОШ 0,471; 95% ДИ 0,263–0,844). Аномалии строения первого полярного тельца чаще встречались у пациенток с ВИЧ-инфекцией, однако статистическая значимость различий имела пограничное значение (0,9% (11/1228) и 0,3% (3/1093) соответственно; р=0,054; ОШ 3,2; 95% ДИ 0,910–11,624). Деформация зоны пеллюцида ооцита наблюдалась одинаково часто в обеих группах (0,7% (8/1228) и 0,9% (10/1093) соответственно; р=0,465; ОШ 0,7; 95% ДИ 0,281–1,791).
Обсуждение
Кумулятивное число ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации достигло 1 492 998 человек (по состоянию на конец 2020 г.), из них 37,5% составляют женщины; АРТ получали 604 999 ВИЧ-позитивных [18]. Наиболее высокий уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией сохраняется в возрастной группе от 30 до 44 лет. Хотя среди российской когорты ВИЧ-позитивных преобладают мужчины, следует сказать, что у женщин риск инфицирования в 4–7 раз выше, что обусловлено анатомическими особенностями и длительным нахождением во влагалище семенной жидкости с высокой концентрацией вирусных частиц. Более того, риск инфицирования повышается при наличии инфекций, передающихся половым путем и язвенных поражений слизистой оболочки половых путей [19]. Использование высокоактивной АРТ позволяет женщинам с ВИЧ-инфекцией планировать беременность как самостоятельно, так и с использованием ВРТ. Однако в данной группе пациенток наблюдается снижение фертильности при любой стадии ВИЧ-инфекции, что объясняют высокой частотой встречаемости воспалительных заболеваний органов малого таза, а также негативным влиянием препаратов группы НИОТ на липидный обмен, резистентность к инсулину [20, 21]. Гонадотоксичный эффект АРТ обсуждаются и в контексте низкой эффективности программ ВРТ у женщин с ВИЧ-инфекцией [20, 21]. Однако, учитывая доказанную митохондриальную токсичность НИОТ, исследования в основном направлены на оценку копийности мтДНК гамет. Морфологические же характеристики ооцитов ВИЧ-инфицированных женщин в настоящее время не изучены.
Как было уже сказано, аномалии морфологии ооцитов встречаются более чем в половине циклов ВРТ, и при их наличии снижается частота наступления беременности [3]. В данной работе частота встречаемости различных дисморфизмов у пациенток с ВИЧ-инфекцией составила 29,5%, что было значимо выше по сравнению с ВИЧ-негативными женщинами (14,1%; р<0,001).
Пациентки с ВИЧ-инфекцией, включенные в настоящее исследование, были в репродуктивном возрасте (Ме 34 года), имели средний «стаж» заболевания (Ме 8 лет) и непродолжительный период использования АРТ (Ме 3,6 года). Следует сказать, что при оценке силы взаимосвязи была выявлена обратная зависимость между частотой выявления морфологически аномальных ооцитов и длительностью АРТ (r=0,173; р<0,001). Более высокая частота встречаемости дисморфизмов у ВИЧ-инфицированных женщин, принимающих АРТ, по сравнению с ВИЧ-негативными пациентками свидетельствует об ухудшения морфологических характеристик ооцитов в данной группе больных.
При анализе клинико-лабораторных показателей обращает на себя внимание тот факт, что у женщин с ВИЧ-инфекцией наблюдались значимо более низкие уровни АМГ (1,58 и 2,8 нг/мл; р<0,001), хотя пациентки обеих групп были сопоставимы по возрасту (34 и 33 года; р=0,079). Полученные данные согласуются с результатами других исследователей. Так, Scherzer R. et al. (2015) было показано, что уровни АМГ среди ВИЧ-инфицированных пациенток были стабильно ниже во всех возрастных группах по сравнению с неинфицированными женщинами [22]. Следует отметить, что в ряде работ было показано, что концентрации сывороточного АМГ отражают морфологические характеристики ооцитов. Авторы объясняют это тем, что АМГ вырабатывается гранулезными клетками и циркулирует в фолликулярной жидкости, тем самым может оказывать влияние на качество ооцитов за счет своего ауто- и паракринного действия. Остается неясным, связана ли корреляция между значениями АМГ и наличием дисморфизмов ооцитов со снижением его секреции гранулезными клетками в ооцитах низкого качества или, напротив, с возможным негативным влиянием низких уровней гормона на качество ооцитов [23–25]. В контексте этих данных, более высокую частоту встречаемости дисморфизмов ооцитов у ВИЧ-инфицированных, в сравнении с неинфицированными пациентками можно объяснить низкими уровнями сывороточного АМГ (1,58 и 2,8 нг/мл; р≤0,001).
При проведении овариальной стимуляции в основной группе исследования, по сравнению с контрольной, была использована значимо большая суммарная доза индуктора (Ме 2250 и 1950 МЕ; р=0,001), получено существенно меньшее количество ооцитов (Ме 8 и 10; р=0,010), что можно объяснить исходно более низкими показателями овариального резерва. Обращает на себя внимание прямая зависимость частоты обнаружения морфологических аномалий ооцитов и суммарной дозы гонадотропинов у ВИЧ-инфицированных женщин (r=0,222; р<0,001). В исследовании Figueira et al. (2010) суммарная доза рФСГ положительно коррелировала с появлением экстрацитоплазматических дисморфизмов, а именно с наличием гранулярности в перивителлиновом пространстве (r=0,125; p=0,018) [26].
В структуре цитоплазматических дисморфизмов ооцитов в обеих группах преобладала центральная гранулярность цитоплазмы (17,3 и 10%), существенно чаще у ВИЧ-инфицированных пациенток (р<0,001). По данным литературы, частота встречаемости данной аномалии ооцитов достигает 30–35% [27], а в качестве факторов риска возникновения обсуждается возраст женщины и различные протоколы овариальной стимуляции [5]. Влияние центральной гранулярности цитоплазмы на исходы циклов ЭКО остается спорным. Так, в исследовании Tulay P. et al. (2019) не было выявлено различий в частоте оплодотворения между ооцитами с нормальной цитоплазмой и ооцитами с центральной грануляцией цитоплазмы. Более того, частота дробления, бластуляции и доля анеуплоидных эмбрионов также была сопоставима между группами. Однако частота наступления клинической беременности была существенно ниже в группе пациенток с центральной грануляцией цитоплазмы ооцитов в сравнении с группой контроля. Авторы делают вывод, что эмбрионы, полученные из ооцитов с центральной грануляцией цитоплазмы, имеют меньший потенциал к имплантации [28]. Другие исследователи, напротив, низкую частоту наступления беременности в данной группе пациенток объясняют более высокой частотой анеуплоидий (52%) в бластомерах эмбрионов, полученных после оплодотворения ооцитов с центральной грануляцией цитоплазмы [27].
Вакуоли (1,4 и 0,3%; р=0,004) и темная цитоплазма (1,1 и 0,5%; р=0,174) встречались не столь часто как в основной, так и в контрольной группах. По данным других исследователей, распространенность вакуолизации ооцитов также невысока и составляет не более 3–4% [5]. Факторы риска возникновения данного дисморфизма неизвестны, а частота оплодотворения ооцитов с вакуолями зависит от их количества и размера. Существует мнение, что крупные вакуоли смещают веретено деления; как результат, нарушается архитектоника цитоплазмы, что препятствует нормальному движению пронуклеусов, а полученные при этом эмбрионы реже достигают стадии бластоцисты и имеют более низкий потенциал к имплантации [8]. Наличие темной цитоплазмы ооцита может быть связано с цитоплазматической незрелостью клетки и также увеличивает вероятность получения эмбрионов плохого качества [29].
В основной группе исследования по сравнению с контрольной существенно чаще наблюдалась агомогенная цитоплазма ооцитов (7 и 1,7%; р<0,001). Большинство исследователей полагают, что агомогенная цитоплазма имеет неизвестное биологическое значение, то есть остаются неясными ни генез, ни влияние данного дисморфизма ооцитов на исход циклов ЭКО [5, 7].
Интересным в данной работе является то, что аномальные агрегаты ГЭР встречались только в группе пациенток с ВИЧ-инфекцией (1,3%, 16/1228). Данная морфологическая аномалия ооцитов является наиболее серьезной с точки зрения отрицательных эмбриологических, клинических и неонатальных исходов. В этой связи экспертами Стамбульского консенсуса по оценке ооцитов и эмбрионов рекомендовано не использовать для оплодотворения яйцеклетки с аномальными агрегатами ГЭР [7]. Факторами риска появления данного дисморфизма являются овариальная стимуляция, длительность и доза вводимых гонадотропинов [30]. Поскольку в данной работе у женщин с ВИЧ-инфекцией по сравнению с группой контроля была использована значимо большая суммарная доза индуктора (Ме 2250 и 1950 МЕ; р=0,001), полагаем, что это один из факторов появления аномальных агрегатов ГЭР в данной группе пациенток.
Частота выявления экстрацитоплазматических дисморфизмов ооцитов была сопоставима между группами (9 и 7,7%; р=0,241). Полученные данные подтверждаются результатами других исследователей, в которых показано, что данные морфологические аномалии – это фенотипические отклонения, отражающие гетерогенность полученных ооцитов [7].
Заключение
Таким образом, у пациенток с ВИЧ-инфекцией, использующих АРТ, наблюдалось снижение уровня АМГ; как результат было получено меньшее количество ооцитов, морфологические характеристики которых были существенно хуже в сравнении с группой контроля. По этическим и нормативным причинам проведение подобных исследований у женщин с ВИЧ-инфекцией, не принимающих АРТ, в России невозможно; поэтому обоснованно предполагать наличие ведущей роли АРТ в развитии дисморфизмов ооцитов преждевременно. В то же время полученные данные позволяет рекомендовать пациенткам данной группы не откладывать планирование беременности и при достижении неопределяемой вирусной нагрузки в крови стремиться к реализации репродуктивной функции самостоятельно или с использованием ВРТ.