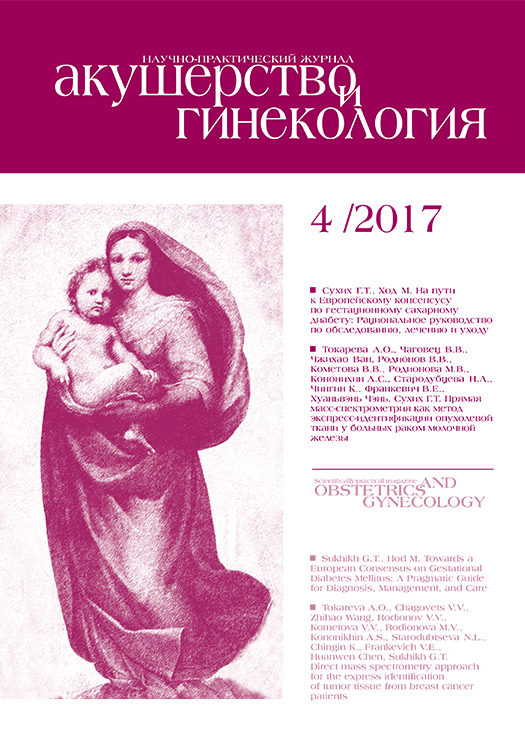ГБУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета, Россия
Цель исследования. Провести систематический анализ данных, имеющихся в современной российской и зарубежной литературе, об изменении уровня различных аутоантител при развитии преэклампсии, а также о возможности его диагностического использования.
Материал и методы. В исследование включены данные отечественных и зарубежных публикаций, опубликованных за последние 15 лет.
Результаты. Результаты клинико-иммунологических анализов позволяют предполагать, что одним из непосредственных патогенетических факторов развития преэклампсии может явиться аномальное снижение продукции многих аутоантител. Таким образом, исследование уровней аутоантител является дополнительным достоверным способом диагностики преэклампсии.
Заключение. Требуются дальнейшие исследования в области иммунологии в направлении понимания значения аутоантител в патогенезе преэклампсии.
преэклампсия
аутоантитела
Преэклампсия (ПЭ) является одним из наиболее серьезных осложнений беременности. Несмотря на стремительное развитие медицинской науки, в том числе, акушерства, встречаемость ее в мире остается высокой [1]. Учитывая серьезные последствия ПЭ для здоровья как матери, так и ребенка, очень важным остается вопрос о возможности ранней диагностики данного осложнения. На сегодняшний момент основное внимание сосредоточено на изучении иммунологии и иммунопатологии ПЭ, так как иммунной составляющей отводят важное место в развитии данной патологии.
Эпидемиология, основные факторы риска и диагностические критерии ПЭ
Согласно данным российской статистики, распространенность ПЭ и эклампсии среди беременных составляет не более 2% [2, 3]. Однако в структуре материнской смертности это осложнение занимает 4-е место [1]. В общемировом масштабе его встречаемость составляет около 3% [4]. Следует отметить, что частота встречаемости ПЭ зависит от экономического благосостояния страны, в связи с чем в развивающихся странах встречаемость этой патологии в 7 раз выше, чем в развитых [5]. Отметим, что ПЭ опасна не только для женщины, но и для здоровья ребенка. Причем, диапазон воздействия на плод может колебаться в широких пределах – от задержки роста и развития плода вплоть до его внутриутробной гибели [6, 7].
Многолетний опыт работы с пациентками позволил выделить ряд факторов, повышающих риск развития ПЭ, которые, согласно международным рекомендациям, разделяют на факторы умеренного и высокого риска. К последним относят артериальную гипертензию в анамнезе, аутоиммунные заболевания (антифосфолипидный синдром, системная красная волчанка) и хронические заболевания почек. Они могут повышать риск развития ПЭ в более чем 9 раз [8]. К факторам умеренного риска относят: первую беременность, возраст матери более 40 лет, интервал между беременностями более 10 лет, индекс массы тела более 35 кг/м2, многоплодную беременность, наличие ПЭ в семейном анамнезе [9, 10]. К сожалению, ни один из указанных факторов не является достоверным с точки зрения прогнозирования ПЭ.
Основными критериями для постановки диагноза являются: срок гестации 20 недель и более, артериальная гипертензия более 140 (систолическое) и 90 (диастолическое) мм рт. ст., протеинурия [9–11]. В некоторых случаях может присоединяться тромбоцитопения, нарушение функции почек и печени, отек легких и др. [9]. Клиническая картина ПЭ не всегда ярко выражена и зависит от тяжести ПЭ. Так, при умеренной ПЭ пациентка может не предъявлять никаких жалоб, лишь в части случаев может отмечаться головная боль, неудовлетворительное самочувствие и отеки.
Основные гипотезы, касающиеся патогенеза ПЭ
В настоящее время существует множество гипотез, объясняющих развитие ПЭ. Причем ключевым моментом большинства из них является предположение о том, что основным звеном, нарушения в котором индуцируют развитие данного осложнения беременности, является плацента, но не плод, как считалось ранее [12–14].
В многочисленных публикациях отмечалось, что в основе развития ПЭ лежит нарушение глубокой плацентации и формирования спиральных артерий. Возможно, нарушенная инвазия клеток трофобласта и последующее преобразование спиральных артерий являются ключевыми моментами в развитии ПЭ. В литературе описаны некоторые патофизиологические процессы, которые могут приводить к данному нарушению. В норме инвазия трофобласта в стенку матки запускает преобразование материнских децидуальных сосудов: увеличивается их диаметр, снижается реактивность [15, 16]. Определенную роль играют гипоксические состояния. При прогрессировании гипоксии нарушается активация трофобласта, и, следовательно, происходит нарушение инвазии и преобразование спиральных артерий [17]. Особая роль в развитии и преобразовании спиральных артерий принадлежит NK-клеткам (натуральным киллерам) [18, 19].
Было показано, что их число и активность у пациентов с ПЭ обычно повышена, а их активация, в свою очередь, сопровождается повышением синтеза и секреции интерферона (INF)-γ, участвующего в преобразованиях спиральных артерий [20]. Важную роль в регуляции инвазии трофобласта может играть и лейкоцитарный антиген. Во всяком случае, у пациенток с ПЭ отмечается снижение его экспрессии [21, 22].
Аномальная плацентация влечет за собой нарушения в экспрессии ряда про- и антиангиогенных факторов, в том числе фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), фактора роста плаценты (PlGF) и их рецепторов (растворимая форма рецептора VEGF – sFlt1; растворимый эндоглин – sEng). Возникающие дисбалансы ведут к дисфункции материнского эндотелия, повышению синтеза свободных радикалов, снижению синтеза оксида азота и др. Вероятно, высокие уровни sEng, низкие уровни концентрации свободного PlGF и VEGF особенно часто ведут к клиническим проявлениям ПЭ [23, 24]. Причем изменение титра sFlt1 и PlGF может отмечаться за несколько недель до развития клинических признаков ПЭ, а их выраженность коррелирует с тяжестью ПЭ [25–27]. Некоторые исследователи полагают, что изменение соотношения sFlt1/PlGF является важным диагностическим критерием развития ПЭ [28].
Аутоантитела и ПЭ
Помимо таких продуктов синтеза иммунокомпетентных клеток, как цитокины, и собственно клеток иммунной системы (NK-клетки) в исследованиях ПЭ большое внимание уделяется аутоантителам. Это биологически активные молекулы, которые синтезируются и секретируются B-лимфоцитами и, в отличие от цитокинов, характеризуются исключительно высокой специфичностью связывания: каждый клон аутоантител способен избирательно взаимодействовать со строго определенной антигенной молекулой. Основная функция аутоантител сводится к их участию в поддержании антигенно-молекулярного гомеостаза организма. В первую очередь, в участии (вместе с макрофагами) в клиренсе продуктов распада собственных клеток всех органов и тканей, отслуживших свой ресурс и гибнущих в результате активации апоптоза [29–31]. При любых патологических состояниях, сопровождающихся повышением интенсивности апоптоза, или при индукции некроза клеток любых органов и тканей, происходит вторичная (адаптивная, физиологическая) активация синтеза аутоантител, смыслом которой является активация клиренса страдающего органа. Однако в некоторых патологических ситуациях (например, под влиянием лимфотропных вирусов) может наблюдаться первичная (патологическая, без нужды для организма) активация синтеза аутоантител той или иной антигенной направленности. Что, в свою очередь, может приводить к развитию патологических состояний аутоиммунного генеза, таких как болезнь Грейвса, сахарный диабет 1-го типа, антифосфолипидный синдром, ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др. [32, 33].
Широко исследуется роль аутоантител и в развитии ПЭ. В частности, было показано, что 94% всех беременных с ПЭ имеют существенные отклонения в сывороточном содержании определенных аутоантител класса IgG, имеющих различную антигенную направленность [34]. В настоящее время остается не вполне понятным значение повышения продукции и секреции аутоантител определенной специфичности при ПЭ (к двуспиральной ДНК, к фосфолипидам, к интиме сосудов и др.). Иными словами, не вполне ясно, является ли это повышение вторичным физиологическим ответом иммунной системы беременной женщины на аномальную активацию апоптоза каких-то клеток ее организма. Альтернативным объяснением является предположение о ведущей патогенетической роли аутоантител в развитии ПЭ. Первичный подъем их продукции (не обусловленный необходимостью повышения клиренса) вызванный каким-то внешним, например, инфекционным фактором мог бы негативно влиять на состояние эндометрия и индуцировать нарушения инвазии трофобласта [35]. Так или иначе, отклонения в концентрациях тех или иных аутоантител обнаруживаются у 64% беременных за 3–4 недели до развития ПЭ против 3,2% здоровых женщин, у которых также наблюдаются похожие изменения [36]. Поэтому в любом случае изучение особенностей и аномалий сывороточного содержания аутоантител разной антигенной, органной и тканевой специфичности у беременных с ПЭ может лечь в основу разработки специализированных иммунохимических методов доклинической диагностики развития данного осложнения.
Согласно некоторым наблюдениям, ряд антител можно отнести к «эмбриональным» аутоантителам, нормальный уровень которых способствует физиологическому развитию беременности и правильному развитию плода [37, 38]. К ним относят, в частности, S100, ACBP14/18, MP-65. В других публикациях подчеркивается, что по сути любые естественные аутоантитела матери являются эмбриотропными.
Основное внимание, возможно, следует обратить на показатели таких антител, как антитела к МР-65, GFAP, ANСA, NF-200. В ряде работ показано снижение их концентрации у пациенток с ПЭ. Напротив, концентрация антител, связывающих фосфолипиды, и антител к гликопротеину B2-Гп имеют тенденцию к повышению [32, 34, 37, 39]. Стоит отметить, что относительно антител к двуспиральной ДНК и NO-синтазе имеются несколько противоречивые данные: в ряде работ отмечалось четкое повышение их концентрации у пациенток с ПЭ, в других, напротив, ее снижение [18, 34, 37, 40, 41].
Возможно, эта неоднозначность обусловлена разной степенью тяжести ПЭ или другими особенностями процесса. Во всяком случае, в некоторых исследованиях удалось обнаружить корреляцию между уровнем некоторых аутоантител и тяжестью позднее развивающейся ПЭ. Так, согласно О.В. Макарову с соавт. и А.В. Слободиной, к ним следует отнести антитела к ДНК, Trm-0,01, Kis-07-120, S-100 SPR-06 [36, 40]. В одном из исследований были выявлены сочетания гиперреактивности и гипореактивности некоторых антител (S100, АСВР14/18, МР65), которые, соответственно, определяли развитие тяжелой и легкой форм ПЭ [42].
Следует отметить, что изменение концентрации некоторых антител в плазме крови пациенток также связано с развитием различных сопутствующих состояний. Так, С.В. Букатина показала развитие массивного кровотечения в родах у пациенток со снижением содержания антител к белкам тромбоцитов (Trm) и повышением к суммарным фосфолипидам [43]. Развитие таких осложнений, как отслойка плаценты, маточные кровотечения также находилось в зависимости от повышения уровня антител ANCA [39]. Выявление дисбаланса аутоантител может быть важным не только в диагностике гипертензивных расстройств, в том числе и ПЭ, у беременных, но и для оценки эффективности и достаточности проводимой терапии, а также для прогноза исхода беременности [37, 40].
Отдельно следует отметить, что определенную роль в развитии ПЭ отводят антителам-агонистам ангиотензиновых рецепторов (АТ1-АА). Во многих исследованиях было показано, что у 80% беременных с ПЭ вырабатывается избыток таких антител, способных связываться и активировать рецепторы ангиотензина II, причем титр коррелировал с выраженностью протеинурии и гипертензии [44–46]. Сходные данные были получены в модельных экспериментах на беременных мышах. При введении антител АА-АТ1, полученных от пациенток с ПЭ, беременным мышам у последних развивались симптомы ПЭ [47]. Можно полагать, что аутоантитела АА-АТ1 могут быть ответственны за спазм сосудов ворсин плаценты и снижение фетоплацентарной перфузии [46]. Также активация ангиотензиновых рецепторов может вести за собой развитие гиперкоагуляционного состояния [48], стимулировать тканевой фактор плазминогена и снижать фибринолитическую активность, активировать NADPH-оксидазу, являющуюся источником активных форм кислорода, активировать коллаген-индуцированный путь агрегации тромбоцитов [49, 50].
Данные относительно роли аутоантител к фосфолипидам (антитела к кардиолипину, фосфатидилсерину, волчаночный антикоагулянт, β2-гликопротеин-1) в развитии ПЭ также весьма противоречивы. Однако, согласно мета-анализу, выполненному A.D. Prado, при избытке данных антител в крови пациенток риск развития ПЭ повышается в 2,9 раза, а тяжелой – в 11,2 [51]. Поэтому не исключено, что противоречивость данных связана с тем, что разные авторы могли иметь дело с разными клиническими ситуациями. В настоящее время принято считать, что у 1/3 женщин с антифосфолипидным синдромом в последующем развивается ПЭ. Соответственно, определение у беременных, особенно принадлежащих к группе риска, титров антител к кардиолипину, β2-гликопротеину-1, а также волчаночного антикоагулянта, вероятно, было бы полезным для прогноза развития ПЭ [52].
Подводя итоги, отметим, что многие аутоантитела либо имеют прямое отношение к механизмам развития этой патологии, либо отражают клеточно-молекулярные изменения, прямо связанные с патогенезом ПЭ. Поэтому, несмотря на то, что большинство важнейших вопросов иммунопатогенеза ПЭ остаются открытыми, можно полагать, что по изменениям их продукции и сывороточного содержания, принципиально возможно прогнозировать индивидуальные риски развития и тяжесть ожидаемой ПЭ.
1. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О материнской смертности в Российской Федерации в 2009 году». Методическое письмо от 21.02.2011 N 15-4/10/2-1694.
2. Запорожец Э.Е., Шувалова М.П., Цымлякова Л.М., Фролова О.Г., Огрызко Е.В., Суханова Л.П. Основные показатели деятельности службы охраны здоровья матери и ребенка в Российской Федерации. Статистическая форма №32 за 2012 год. М.: Российское общество акушеров-гинекологов, ФГБУ «НЦАГИП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; 2013: 48-50, 59-61.
3. Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц и новорожденных. Обновление от 14.12.2015. Данные Федеральной службы государственной статистики.
4. Hutcheon J.A., Lisonkova S., Joseph K.S. Epidemiology of pre-eclampsia and the other hypertensive disorders of pregnancy. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2011; 25(4): 391-403.
5. Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. World Health Organization; 2000, reprint 2007. 390p.
6. Keyes L.E., Armaza J.F., Niermeyer S., Vargas E., Young D.A., Moore L.G. Intrauterine growth restriction, preeclampsia, and intrauterine mortality at high altitude in Bolivia. Pediatr. Res. 2003; 54(1): 20-5.
7. Weiler J., Tong S., Palmer K.R. Is fetal growth restriction associated with a more severe maternal phenotype in the setting of early onset pre-eclampsia? A retrospective study. PLoS One. 2011; 6(10): e26937.
8. Kenny L., English F., McCarthy F. Risk factors and effective management of preeclampsia. Integr. Blood Press. Control. 2015; 8: 7.
9. American College of Obstetricians and Gynecologists. Hypertension in Pregnancy, practice guideline. American College of Obstetricians and Gynecologists; 2013.
10. NICE clinical guideline 107. Hypertension in pregnancy: the management of hypertensive disorders during pregnancy. National Institute for Health and Clinical Excellence; 2010. 47p.
11. Tranquilli A.L., Dekker G., Magee L., Roberts J., Sibai B.M., Steyn W. et al. The classification, diagnosis and management of the hypertensive disorders of pregnancy: A revised statement from the ISSHP. Pregnancy Hypertens. 2014; 4(2): 97-104.
12. Bombrys A.E., Barton J.R., Nowacki E.A., Habli M., Pinder L., How H. et al. Expectant management of severe preeclampsia at less than 27 weeks’ gestation: maternal and perinatal outcomes according to gestational age by weeks at onset of expectant management. Am. J. Obstet. Gynecol. 2008; 199(3):247. e1-6.
13. Matsuo K., Kooshesh S., Dinc M., Sun C.-C.J., Kimura T., Baschat A.A. Late postpartum eclampsia: report of two cases managed by uterine curettage and review of the literature. Am. J. Perinatol. 2007; 24(4): 257-66.
14. Norwitz E.R., Repke J.T. Preeclampsia prevention and management. J. Soc. Gynecol. Investig. 2000; 7(1): 21-36.
15. McMaster M.T., Zhou Y., Fisher S.J. Abnormal placentation and the syndrome of preeclampsia. Semin. Nephrol. 2004; 24(6): 540-7.
16. Silasi M., Cohen B., Karumanchi S.A., Rana S. Abnormal placentation, angiogenic factors, and the pathogenesis of preeclampsia. Obstet. Gynecol. Clin. North Am. 2010; 37(2): 239-53.
17. Caniggia I., Mostachfi H., Winter J., Gassmann M., Lye S.J., Kuliszewski M. Hypoxia-inducible factor-1 mediates the biological effects of oxygen on human trophoblast differentiation through TGFbeta(3). J. Clin. Invest. 2000; 105(5): 577-87.
18. Goldman-Wohl D., Yagel S. NK cells and pre-eclampsia. Reprod. Biomed. Online. 2008; 16(2): 227-31.
19. Сухих Г.Т., Ванько Л.В. Иммунные факторы в этиологии и патогенезе осложненной беременности. Акушерство и гинекология. 2012; 1: 128-36.
20. Burke S.D., Barrette V.F., Gravel J., Carter A.L.I., Hatta K., Zhang J. et al. Uterine NK cells, spiral artery modification and the regulation of blood pressure during mouse pregnancy. Am. J. Reprod. Immunol. 2010; 63(6):472-81.
21. Bouteiller P. Le., Pizzato N., Barakonyi A., Solier C. HLA-G, pre-eclampsia, immunity and vascular events. J. Reprod. Immunol. 2003; 59(2): 219-34.
22. O’Brien M., Dausset J., Carosella E.D., Moreau P. Analysis of the role of HLA-G in preeclampsia. Hum. Immunol. 2000; 61(11): 1126-31.
23. Ahmad S., Ahmed A. Elevated placental soluble vascular endothelial growth factor receptor-1 inhibits angiogenesis in preeclampsia. Circ. Res. 2004; 95(9): 884-91.
24. Maynard S.E., Min J.-Y., Merchan J., Lim K.-H., Li J., Mondal S. et al. Excess placental soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt1) may contribute to endothelial dysfunction, hypertension, and proteinuria in preeclampsia. J. Clin. Invest. 2003; 111(5): 649-58.
25. Chaiworapongsa T., Romero R., Espinoza J., Bujold E.M., Kim Y., Goncalves L.F. et al. Evidence supporting a role for blockade of the vascular endothelial growth factor system in the pathophysiology of preeclampsia. Young Investigator Award. Am. J. Obstet. Gynecol. 2004; 190(6): 1541-7; discussion 1547-50.
26. Levine R.J., Maynard S.E., Qian C., Lim K.-H., England L.J., Yu K.F. et al. Circulating angiogenic factors and the risk of preeclampsia. N. Engl. J. Med. 2004; 350(7): 672-83.
27. Robinson C.J., Johnson D.D., Chang E.Y., Armstrong D.M., Wang W. Evaluation of placenta growth factor and soluble Fms-like tyrosine kinase 1 receptor levels in mild and severe preeclampsia. Am. J. Obstet. Gynecol. 2006; 195(1): 255-9.
28. Verlohren S., Galindo A., Schlembach D., Zeisler H., Herraiz I., Moertl M.G. et al. An automated method for the determination of the sFlt-1/PIGF ratio in the assessment of preeclampsia. Am. J. Obstet. Gynecol. 2010; 202(2):161. e1-161. e11.
29. Poletaev A.B., Churilov L.P., Stroev Yu.I., Agapov M.M. Immunophysiology versus immunopathology: Natural autoimmunity in human health and disease. Pathophysiology. 2012; 19(3): 221-31.
30. Poletaev A.B. The main principles of adaptive immune system function: self-recognition, self-interaction, and self-maintenance. In: Poletaev A.B., ed. Physiologic autoimmunity and preventive medicine. Sharjah, Oak Park, Bussum: Bentham Science Publishers; 2013: 3-20.
31. Poletaev A.B. Autoantibodies: serum content or profiles? In: Poletaev A.B., ed. Physiologic autoimmunity and preventive medicine. Sharjah, Oak Park, Bussum: Bentham Science Publishers; 2013: 199-207.
32. Полетаев А.Б. О «трудных вопросах» аутоиммунитета. Или как концепция иммункулуса может стать основой профилактической медицины. Медицина XXI век. 2008; 11(2): 84-91.
33. Wattts R.A. Autoantibodies in autoimmune diseases. Medicine. 2002;30(10): 2-6.
34. Замалеева Р.С., Мальцева Н.А., Черепанова Н.А., Букатина С.В., Нюхнин М.А. Клиническое значение определения уровня регуляторных аутоантител для оценки риска развития гестоза. Практическая медицина. 2009; 2: 68-71.
35. Kalden J.R., Herrmann M., eds. Apoptosis and autoimmunity: from mechanisms to treatments. Wiley-Blackwell; 2006. 392p.
36. Слободина А.В. Возможности прогнозирования тяжелой преэклампсии: дисс. ... канд. мед. наук. Омск; 2015. 136с.
37. Замалеева Р.С., Черепанова Н.А., Букатина С.В., Нюхнин М.А. Определение уровня регуляторных аутоантител для оценки риска развития гестоза. Медицинский альманах. 2008; 5: 56-60.
38. Левченко В.Г., Мальцева Н.В., Лыкова О.Ф., Конышева Т.В., Зорина В.Н. Содержание комплексов основного белка миелина с антителами класса G в сыворотке крови при нормальной беременности и гестозе. Медицинская иммунология. 2010; 12(1-2): 155-60.
39. Черепанова Н.А., Замалеева Р.С., Полетаев А.Б. Клиническое значение определения уровня регуляторных аутоантител для оценки риска развития гестоза. Казанский медицинский журнал. 2007; 88(2): 150-3.
40. Макаров О.В., Богатырев Ю.А., Осипова Н.А. Клиническое значение исследования содержания естественных аутоантител в сыворотке крови при преэклампсии. Вестник Российского государственного медицинского университета. 2012; 4: 22-6.
41. Макаров О.В., Богатырев Ю.А., Осипова Н.А. Значение аутоантител в патогенезе преэклампсии. Акушерство и гинекология. 2012; 4-1: 16-21.
42. Морозов С.Г., Радзинкий В.Е., Галина Т.В., Гагаев Ч.Г., Хахва Н.Т. Определение сывороточного содержания эмбриотропных аутоантител в ранние сроки беременности с целью прогнозирования гестоза. Вестник Российского университета дружбы народов. 2003; 1: 11-4.
43. Букатина С.В. Клиническое значение уровней регуляторных аутоантител для оценки риска развития кровотечения в родах и послеродовом периоде: автореф. дисс. … канд. мед. наук. Казань; 2011. 24с.
44. Hubel C.A., Wallukat G., Wolf M., Herse F., Rajakumar A., Roberts J.M. et al. Agonistic angiotensin II type 1 receptor autoantibodies in postpartum women with a history of preeclampsia. Hypertension. 2007; 49(3): 612-7.
45. Siddiqui A.H., Irani R.A., Blackwell S.C., Ramin S.M., Kellms R.E., Xia Y. Angiotensin receptor agonistic autoantibody-mediated soluble fms-like tyrosine kinase-1 induction contributes to impaired adrenal vasculature and decreased aldosterone production in preeclampsia. Hypertension. 2013; 61(2): 472-9.
46. Yang X., Wang F., Chang H., Zhang S., Yang L., Wang X. et al. Autoantibody against AT1 receptor from preeclamptic patients induces vasoconstriction through angiotensin receptor activation. J. Hypertens. 2008; 26(8): 1629-35.
47. Zhou C.C., Zhang Y., Irani R.A., Zhang H., Mi T., Popek E.J. et al. Angiotensin receptor agonistic autoantibodies induce pre-eclampsia in pregnant mice. Nat. Med. 2008; 14(8): 855-62.
48. Dörffel Y., Wallukat G., Bochnig N., Homunh V., Herberg M., Dorffel W. et al. Agonistic AT(1) receptor autoantibodies and monocyte stimulation in hypertensive patients. Am. J. Hypertens. 2003; 16(10): 827-33.
49. Bai K., Wang K., Li X., Wang J., Zhang J., Song L. et al. Autoantibody against angiotensin AT1 receptor from preeclamptic patients enhances collagen-induced human platelet aggregation. Acta Biochim. Biophys. Sin. (Shanghai). 2013; 45(9): 749-55.
50. Xia Y., Ramin S.M., Kellems R.E. Potential roles of angiotensin receptor-activating autoantibody in the pathophysiology of preeclampsia. Hypertension. 2007; 50(2): 269-75.
51. Prado A.D. do, Piovesan D.M., Staub H.L., Horta B.L. Association of anticardiolipin antibodies with preeclampsia: a systematic review and meta-analysis. Obstet. Gynecol. 2010; 116(6): 1433-43.
52. Heilmann L., Schorsch M., Hahn T., Fareed J. Antiphospholipid syndrome and pre-eclampsia. Semin. Thromb. Hemost. 2011; 37(2): 141-5.
Поступила 21.10.2016
Принята в печать 11.11.2016
Мальсагова Ангелина Ахметовна, врач акушер-гинеколог, аспирант, кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета МГМСУ
им. А.И. Евдокимов. Адрес: 127473, Россия, Москва, Делегатская ул., д. 20/1. Телефон: 8 (926) 826-10-10
Цахилова Светлана Григорьевна, д.м.н., профессор, врач акушер-гинеколог, филиал ГБУЗ ГКБ № 68 ДЗМ Родильный дом № 8.
Адрес: Россия, Москва, ул. Самаркандский бульвар, д. 3. Телефон: 8 (916) 794-47-30
Сарахова Джамиля Хажбаровна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач акушер-гинеколог, филиал ГБУЗ ГКБ № 68 ДЗМ Родильный дом № 8. Адрес: Россия, Москва, ул. Самаркандский бульвар, д. 3. Телефон: 8 (905) 708-84-66
Хмельницкая Антонина Витальевна, врач акушер-гинеколог, филиал ГБУЗ ГКБ № 68 ДЗМ Родильный дом № 8.
Адрес: Россия, Москва, ул. Самаркандский бульвар, д. 3. Телефон: 8 (925) 199-50-90
Бегизова Аида Майрбековна, аспирант, кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимов.
Адрес: 127473, Россия, Москва, Делегатская ул., д. 20/1. Телефон: 8 (926) 762-52-00
Полетаев Александр Борисович, д.м.н., профессор, врач-иммунолог, МИЦ «Иммункулус», НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина.
Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 4. Телефон: 8 (925) 081-16-38
Для цитирования: Мальсагова А.А., Цахилова С.Г., Сарахова Д.Х., Хмельницкая А.В., Бегизова А.М., Полетаев А.Б. О возможностях использования некоторых аутоантител в диагностике преэклампсии. Акушерство и гинекология. 2017; 4: 27-32.
http://dx.doi.org/10.18565/aig.2017.4.27-32