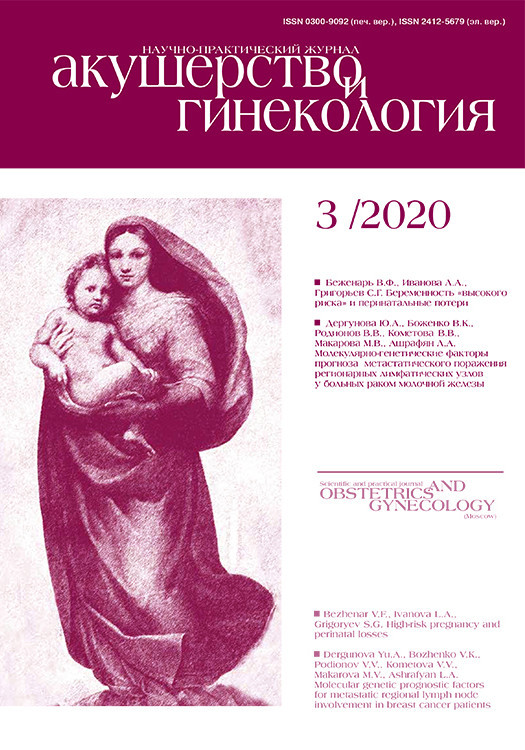Совокупность генов всех микроорганизмов, живущих в человеческом теле, а также их специфическая окружающая среда называются микробиомом [1]. Человеческий микробиом представлен целым спектром микроорганизмов, включая эукариот, грибы, архебактерии, бактерии и вирусы. Совокупность клеток микроорганизмов и клеток человеческого тела представляет собой единую экологическую и биологическую единицу, так называемый голобионт.
Растущее с каждым днем число публикаций показывает, что при различных неинфекционных заболеваниях, являющихся, как известно, «чумой» XXI в., например, при таких, как сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром, болезни обмена, эндокринные расстройства, видовой состав микрофлоры значительно изменяется. При этом остается неясным, что первично – изменение микробиома и, как следствие, развитие заболевания, или же трансформация состава микрофлоры в ответ на возникновение патологического состояния, что не исключает возможности коррекции этих заболеваний путем воздействия на микробиом человека [2, 3].
Учитывая недавний прогресс в технологиях секвенирования, постепенно формируется понимание роли микробиоты человека в генезе различных патологических состояний. Становится очевидным, что некоторые бактерии не являются пассивными комменсалами, но оказывают глубокое влияние на гомеостаз хозяина. Действительно, бактерии играют важную роль на разных уровнях, включая защиту от патогенов, созревание иммунной системы, метаболизм различных веществ, синтез витаминов и другие. Таким образом, неудивительно, что дисбаланс микробиоты может быть ассоциирован с некоторыми неинфекционными заболеваниями и неблагоприятными исходами. Половая система, безусловно, не является исключением из бактериальной колонизации и не является стерильной. Помимо патогенных бактерий, присутствие которых ассоциировано с неблагоприятными исходами беременности или бесплодием, роль физиологической микробиоты все еще недооценена. Благодаря последним достижениям имеется все больше доказательств взаимосвязи между микробиотой и фертильностью, гормональным статусом, лечением антибиотиками, а также сексуальными привычками.
На протяжении целого века общепринятой считалась концепция H. Tissier (1900) [4] об абсолютной стерильности полости матки, маточных труб, яичников и плода. Подкреплялась эта концепция мнением о наличии целого ряда защитных механизмов, препятствующих попаданию бактерий в верхние отделы генитального тракта и включающих в себя и особое строение цервикального канала, и наличие уникальной цервикальной слизи, и присутствие лактобактерий во влагалище. Однако, с другой стороны, невозможно отрицать и механизм наличия перистальтических маточных контракций, которые способствуют как захвату сперматозоидов из влагалища, так и, соответственно, попаданию микрофлоры влагалища в полость матки. С другой стороны, рядом исследователей доказан гематогенный путь попадания бактерий в различные отделы генитального тракта [5] либо из ротовой полости [6], либо из кишечника [7]. Другие, более очевидные пути попадания микроорганизмов в полость матки и верхние отделы генитального тракта включают в себя любые инвазивные манипуляции, процедуры переноса эмбрионов в циклах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), установку внутриматочных спиралей (ВМС).
На протяжении всего ХХ в. не прекращались попытки выявить микроорганизмы, населяющие верхние отделы генитального тракта. Основным способом диагностики оставался классический культуральный метод. С появлением технологии секвенирования нового поколения стало возможным определение гораздо большего числа микроорганизмов среды; оказалось, что в среднем только 1% бактерий возможно выявить с помощью культурального метода [8–10].
Однако и у метода секвенирования также имеется ряд серьезных ограничений. Первое и самое серьезное ограничение касается возможной контаминации образцов микробами из других биотопов. Так, далеко не во всех исследованиях подробно описана методика взятия материала. Например, для взятия материала из полости матки требуется трансцервикальный доступ, что повышает вероятность попадания микрофлоры цервикального канала или влагалища. Для адекватного взятия целесообразно использовать катетер для искусственной инсеминации, состоящий из внутренней части и наружного проводника, что позволяет избежать именно контаминации флорой цервикального канала. В противовес, получение образцов эндометрия с использованием цервикальных расширителей, маточных манипуляторов неизбежно приводит к искажению результатов. Поэтому при планировании исследований микробиома малодоступных локализаций необходимо формировать группу контроля.
Второе ограничение метода секвенирования заключается в небольшом количестве испытуемых. В большинстве работ по этой тематике количество пациентов в выборке не превышает 40 человек, что значимо снижает статистическую силу исследований. Кроме того, не приходится говорить и об оценке этнических различий в оценке микробиома. По аналогии с микробиомом влагалища, который имеет свои особенности у женщин различного этнического происхождения, можно предполагать, что и микробиомы верхних отделов репродуктивной системы у женщин имеют различный состав, например, у пациенток европеоидной и негроидной рас.
Третье значимое ограничение в области исследований микробиома верхних отделов репродуктивного тракта – это отсутствие понятия «норма». Все имеющиеся в литературе работы касаются прежде всего патологических состояний – привычного невынашивания беременности, многократных неудач ВРТ, хронического эндометрита, полипов эндометрия и так далее. Материал, полученный при органоуносящих операциях по поводу доброкачественных и злокачественных новообразований, полипоза эндометрия, не может считаться подходящим для оценки понятия «нормального» микробиома. Возможно, что пациентки, обследующиеся в программах ВРТ по поводу мужского фактора, могут служить условной группой нормы.
Значимым недостатком метода секвенирования является также неспособность этого метода установить жизнеспособность микроорганизмов, в отличие от культурального метода, направленного на выделение и идентификацию живых микроорганизмов. Таким образом, остается открытым вопрос, присутствуют ли выявленные микроорганизмы в изучаемой среде постоянно, влияя на функцию органа; находились ли когда-то, но погибли под действием локального иммунитета; или же являются случайными «туристами», не оказывающими никакого влияния на репродуктивную функцию.
На основании всех опубликованных на сегодняшний день обзоров о микробиоме полости матки сложно сделать вывод о том, что входит в состав «здоровой» микрофлоры эндометрия. Тем не менее из существующих данных можно сделать некоторые обобщающие выводы: самые часто встречающиеся микроорганизмы этого биотопа принадлежат к следующим семействам: Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria и Actinobacteria [11–19]. Среди Firmicutes Lactobacillus составляют самый значимый компонент в составе микробиома полости матки. Однако остается неясным, являются ли Lactobacillus нормальными обитателями, или все же они причастны к развитию того или иного патологического процесса.
Одно из немногочисленных исследований, посвященных микробиому полости матки у здоровых женщин фертильного возраста, было проведено Mitchell и соавт. [20]. У 100% женщин выявлены те или иные бактериальные сообщества в полости матки; при этом доминировали Lactobacillus, в меньшем количестве выявлены Gardnerella, Prevotella, Atopobium и Sneathia, которые обнаруживались и в составе микробиома влагалища. Тем не менее, у примерно 1/5 женщин бактериальные сообщества содержимого полости матки значительно отличались от таковых во влагалище, что свидетельствует о том, что эндометриальный и вагинальный микробиом неидентичны.
Так, Fang и соавт. [15] сообщают о более высоком уровне Lactobacillus в группе женщин с полипами эндометрия и в группе женщин с сочетанием полипов эндометрия и хронического эндометрита (38,64 и 33,21% соответственно).
В противовес этому исследованию, Moreno и соавт. [21] показали, что преобладание Lactobacillus (более 90%) в составе микробиома матки достоверно ассоциировано с успешными попытками ВРТ. Так, было показано, что при оценке бактериальных сообществ из эндометриальной жидкости и пробы влагалищного аспирата у одних и тех же испытуемых в программах ЭКО состав микрофлоры различен в этих двух локациях. Микробиота в эндометриальной жидкости включала до 191 таксономической единицы и была представлена двумя видами: с преимущественно лактобациллярной флорой (Lactobacillus spp. >90%) и с нелактобациллярной микрофлорой (<90% Lactobacillus spp. с >10% других различных микроорганизмов). При анализе дальнейшей попытки ЭКО было обнаружено, что у пациенток с доминированием лактобацилл наблюдается большая частота имплантации и родов, чем у пациенток без доминирования – 60,7% против 23,1% (p=0,02) и 58,8% против 6,7% (p=0,002) соответственно. Положительные исходы беременностей (продолжающаяся беременность, частота живорождений) были выше у пациенток с преобладанием лактобациллярной микрофлоры в полости матки, и, наоборот, невынашивание беременности, нарушения имплантации плодного яйца, мертворождения чаще ассоциировались с нелактобациллярной микрофлорой. Таким образом, микробиом может определять частоту имплантации и родов у пациенток с неудачами ЭКО [21].
Однако нельзя исключить, что присутствие Lactobacillus как в работах Fang [15], так и в работах Moreno и соавт. [21] может являться прямым следствием контаминации микрофлорой влагалища при взятии материала.
Fransiak и соавт. [14] в своих исследованиях микробиома полости матки в момент переноса криоконсервированных эмбрионов показали, что Flavobacterium являются одними из двух самых распространенных таксонов маточного микробиома. Примечательно это исследование тем, что ни в одной из ранее опубликованных работ нет упоминаний о Flavobacterium.
Значима роль микробиома и в развитии тех или иных патологических состояний. Так, у пациенток с гиперплазией эндометрия и раком эндометрия после проведения органоуносящих операций был обнаружен существенный сдвиг в составе вагинальной микрофлоры и микрофлоры эндометрия. Были обнаружены такие микроорганизмы, как Firmicutes (Anaerostipes, Dialister, Peptoniphilus, Ruminococcus и Anaerotruncus), Spirochaetes (Treponema), Actinobacteria (Atopobium), Bacteroidetes (Bacteroides и Porphyromonas) и Proteobacteria (Arthrospira). Присутствие Atopobium vaginae и Porphyromonas spp. ассоциировалось с развитием рака эндометрия, особенно при высоких значениях pH влагалища (>4,5) [22].
Cicinelli и соавт. [10] доказали, что у пациенток с эндометриозом, получавших курс антибактериальной терапии до имплантации эмбрионов, были лучшие репродуктивные исходы, чем у тех, кто не получал противовоспалительного лечения. Это не исключает предположения о том, что негативное влияние эндометриоза на репродуктивную функцию частично связано с присутствием микроорганизмов в матке. Показано, что пациенткам с эндометриозом свойственен микробиом с большим биологическим разнообразием, меньшим процентным содержанием Lactobacillus [19]. Остается дискутабельным вопрос, что первично – контаминация эндометрия микроорганизмами, приводящая к эндометриозу, или же сам эндометриоз, приводящий к сдвигу микрофлоры.
Сходство микрофлоры, обнаруженной в полости матки, ротовой полости, кишечнике и во влагалище, оставляет дискутабельным вопрос о том, откуда берутся микроорганизмы в полости матки. В настоящий момент существует предположение о двух механизмах: прямой восходящий путь из влагалища и гематогенный путь из ротовой полости и кишечника. Эти гипотезы подтверждаются рядом исследований на животных, в частности на крысах. Так, лактобактерии влагалища, помеченные радиоактивными молекулами, обнаруживались в полости матки [23], что косвенно свидетельствует о механизме «захвата» маткой вагинального секрета.
С другой стороны, нельзя игнорировать и гематогенный путь попадания микроорганизмов в полость матки. Jeon S.J. и соавт. [24] показали на экспериментальной модели с коровами, что в крови и в полости матки выделялись одни и те же бактериальные культуры. Чтобы напрямую исследовать гематогенный путь распространения микроорганизмов, Fardini и соавт. [25] использовали модель с грызунами, инъецируя в вены хвоста беременных мышей человеческую слюну и образцы с субгингивальным отделяемым. Через некоторое время в плацентах этих мышей обнаруживали ДНК тех микроорганизмов, которые присутствовали в ротовой полости человека и которыми инфицировали мышей. Предполагается, что в транспорте этих микроорганизмов могут принимать непосредственное участие мононуклеарные клетки, поскольку ДНК определенных микроорганизмов фиксировалась именно на этих клетках.
Микробиом верхних отделов женской репродуктивной системы является самым труднодоступным локусом для изучения именно из-за технической сложности взятия образцов для обследования. Однако благодаря развитию современных эндоскопических методов стало возможным изучать состав микрофлоры маточных труб, фимбрий, поверхности яичников, эндометрия. Pelzer и соавт. [26] изучали микробиоту маточных труб 16 пациентов, половина из которых была в пременопаузальном периоде, вторая половина – в постменопаузальном периоде. Доминирующими таксонами являлись Staphylococcus spp., Enterococcus spp. и Lactobacillus spp. Другие часто встречающиеся виды микроорганизмов включали в себя Pseudomonas spp., Burkholderia spp., Propionibacterium spp. и Prevotella spp. Что примечательно, имелась стереоизомерия бактериальной колонизации между правой и левой маточными трубами, с доминированием Staphylococcus spp. в правых маточных трубах и
Lactobacillus spp., Enterococcus spp. и Prevotella spp. – в левых. Более того, микрофлора различалась по составу у женщин в постменопаузе и пременопаузе, указывая на возможное влияние эндокринного профиля женщины.
Costoya A. и соавт. [27] исследовали смывы с поверхности фаллопиевых труб во время лапароскопии у 60 пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием и у здоровых фертильных женщин. У 3 женщин из группы фертильных пациенток обнаружены Mycoplasmateceae species, при этом не нарушавшие функционирование маточных труб.
Campos и соавт. исследовали перитонеальную жидкость и образцы биоптатов с поверхности брюшины у здоровых женщин и женщин с эндометриозом во время лапароскопии и выявили наличие Mycoplasma genitalium и Mycoplasma hominis [28].
Определенные бактериальные сообщества были обнаружены на поверхности яичников у женщин с раком яичника (РЯ). В одном из исследований Acinetobacter, Sphingomonas и Methylobacterium доминировали у пациенток с РЯ, в то время как Lactococcus spp. доминировали в контрольной группе у здоровых женщин [29]. Авторы этого исследования поддерживают предположение о том, что опухоль сама по себе создает микроокружение, способствующее росту определенных микроорганизмов.
Благодаря методикам молекулярной диагностики, удалось обнаружить ряд микроорганизмов в плацентах доношенных здоровых новорожденных без каких-либо признаков инфекции или воспалительного процесса как после родов через естественные родовые пути, так и после кесарева сечения (КС) в абсолютно стерильных условиях. Aagard и соавт., используя 16S р-РНК секвенирование, обследовали 320 женщин, у которых в плацентах выявили Firmicutes, Tenericutes, Proteobacteria, Bacteroidetes и Fusobacteria, в небольших количествах [30]. Некоторые микробные сообщества определяются и в околоплодных водах, при этом с целыми плодными оболочками, без преждевременного их разрыва [31]. Часть исследователей подтверждают наличие в плаценте бактерий, аналогичных составу влагалищной среды [32], другие – аналогичных составу микробиома кишечника и ротовой полости (так, было показано наличие в микробиоме плаценты Escherichia coli, Prevotella tannarae, непатогенных Neisseria species [30, 33]). Предполагается, что такая транслокация микроорганизмов из ротовой полости или кишечника в плаценту происходит при повышении проницаемости капилляров ротовой полости и кишечника при гингивите и колите, что объясняет, например, высокую частоту акушерских осложнений у женщин с периодонтитом [34]. По всей вероятности, такие разные данные объясняются тем, что различные части плаценты были взяты для каждого обследования. Таким образом, можно предполагать, что даже в пределах единого органа плаценты существуют различные биотопы со своим составом микрофлоры.
Безусловно, в каждом из этих исследований отдельной строкой встает вопрос о технике взятия материала, действительно ли она исключает контаминацию образцов микрофлорой других биотопов.
Верхние отделы женской репродуктивной системы, включая эндометрий, маточные трубы, яичники, в отличие от влагалища, по-прежнему остаются «спорными» локусами для метагеномного анализа из-за сложности в получении образцов, не контаминированных бактериями при взятии из других локусов, а также из-за ограниченного разнообразия бактериальной популяции. Тем не менее, несмотря на все ограничения метагеномного анализа, попытки выяснить роль тех или иных микроорганизмов в успешности программ ВРТ, зачатия, вынашивания беременности, в генезе ряда гинекологических заболеваний не оставляют умы исследователей.
Ни одно из имеющихся на сегодняшний день исследований о микробиоме верхних отделов репродуктивного тракта не дает представления о ключевых обитателях нормального микробиома матки, яичников и маточных труб; однако очевидно, что все эти исследования вместе значительно поколебали догму о стерильности этих локусов. Новые данные о присутствии различных микробов в биотопах организма человека, при этом в состоянии клинического «здоровья», без признаков воспаления или инфекционного ответа, свидетельствуют о вероятной эволюционной взаимовыгоде такого сотрудничества микро- и макроорганизма. С другой стороны, выявление новых патогенных микроорганизмов в состояниях «болезни» может открывать новые интересные возможности лечения пациентов именно с учетом их измененного микробиома. Безусловно, для расширения терапевтических возможностей важно определить понятие «нормы» и «патологии» касательно микробиома женской репродуктивной системы, а для этого требуются новые и новые исследования.
Заключение
Таким образом, приведенные научные данные из последних публикаций на сегодняшний день оставляют нам больше вопросов в проблеме микробиома женской репродуктивной системы, нежели ответов. Среди этих вопросов следующие: как микроорганизмы в эндометрии могут влиять на имплантацию эмбриона и ранние стадии его развития; каково влияние эндокринной системы и, в частности, женских половых гормонов на микробиом верхних отделов репродуктивного тракта; существуют ли какие-то бактериальные маркеры, способные предсказать успешность имплантации и вынашивания; и существуют ли такие маркеры, способные быть ранними предикторами патологических процессов, например, в эндометрии?
Безусловно, вызов будущим исследованиям в области метагеномики верхних отделов женской репродуктивной системы лежит в плоскости увеличения когорты обследуемых, стандартизации методик взятия материала с исключением контаминации, стратификации пациентов в зависимости от географических ареалов и расовой принадлежности, совершенствования статистических методов анализа.
Хотя объем объективных научных данных по этой теме только растет, остается непонятным, что можно сделать еще для улучшения здоровья женщин и их потомства. В эпоху глобального роста неинфекционных заболеваний, бесплодия, невынашивания роль микробиома для коррекции этих нарушений представляется многообещающей.